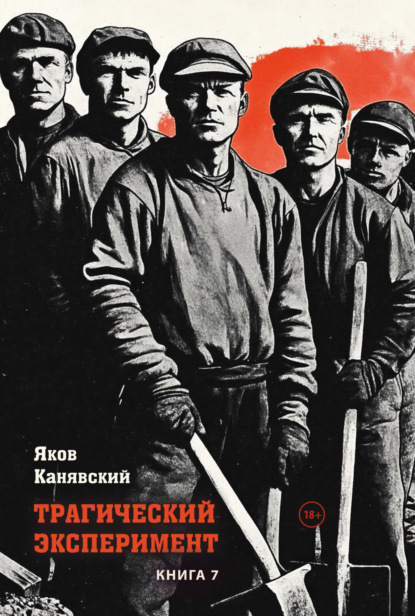
Полная версия:
Трагический эксперимент. Книга 7
– И этих средств ещё оказалось мало, начали распродавать другие ценности.
На рубеже 1920–1930 годов советское государство спешно распродавало за границу уникальные музейные сокровища мирового уровня. Была ли эта беспрецедентная акция большевистской власти оправдана интересами нашей страны? Есть ли шанс у современной России когда-нибудь вернуть художественные ценности, проданные на Запад при Сталине? Обо всём этом рассказала доктор исторических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Юлия Кантор.
– Зачем в СССР в конце 1920‑х годов началась распродажа художественных ценностей из коллекции Эрмитажа? Стало ли это естественным продолжением кампании по продаже церковных и прочих ценностей в начале 1920‑х годов?
– Да, между этими событиями есть прямая связь. Первые попытки продать национализированные художественные ценности советская власть предприняла ещё в 1921 году – кстати, ровно сто лет назад. Когда в стране начался страшный голод, представители дореволюционной интеллигенции создали Всероссийский комитет «Помгол», а советское правительство, в свою очередь, организовало ЦК Помгол во главе с Калининым. И быстро стало очевидно, что неправительственный ВК Помгол был более успешным в деле помощи миллионам голодающих.
Этого новая власть стерпеть не могла, потому его разогнали, а часть наиболее заметных деятелей репрессировали, обвинив в связях с заграницей. В 1922 году советская власть выслала их из России на печально известных «философских пароходах» вместе с другими лучшими представителями русской интеллигенции. Я бы рассматривала это в рамках одной парадигмы: большевики не ценили ни историю страны, ни её наследие – духовное и материальное. «Чуждых», то есть критично относившихся к власти (но, несмотря на это, готовых сосуществовать с ней, принося пользу стране), следовало выслать, «царское» искусство – продать.
Что касается ограбления Русской православной церкви и других действовавших в нашей стране конфессий, то и это тоже было, как мне представляется, одним из существенных аспектов государственной политики по борьбе с инакомыслием. Заметим, до сего дня не известно, какой процент из средств, вырученных на распродажах художественных ценностей, действительно пошёл на нужды голодающих.
Зато, увы, известно, в том числе по публикациям масс-медиа, какой урон это нанесло международному престижу нашей страны. Если бы власть действительно хотела решить проблему голода, то она гораздо лояльнее отнеслась бы к гуманитарным неправительственным (в том числе международным) объединениям. Но идеология довлела над экономикой – и это станет отличительной чертой советской власти на всех этапах её существования.
В пик голодной стихии – 7 февраля 1921 года – вышло постановление Совнаркома «О составлении государственного фонда ценностей для внешней торговли». Парадоксально, но факт: этот документ, ставший спусковым крючком для массовой распродажи нашего национального достояния, де-юре утратил силу только 1 февраля 2020 года. Согласно ему, ответственными за отбор художественных ценностей для последующей продажи стали наркомат внешней торговли, наркомат просвещения и наркомат финансов.
Этот документ был подписан лично Лениным, ведь он тогда стоял во главе Совнаркома. Если говорить про Эрмитаж, то в то время большевики продали не только многие его ценности, ранее принадлежавшие бывшей императорской фамилии. На реализацию шли и предметы из других национализированных собраний и коллекций, оказавшихся в Эрмитаже после революции.
В 1922–1923 годах в Эрмитаже действовала специальная комиссия, которая составила специальные каталоги, а все его экспонаты разделила на три категории:
– не имеющие музейного значения и подлежащие сдаче в Гохран,
– имеющие музейное значение,
– имеющие исключительную художественную ценность.
Ближе к концу 1920‑х годов, когда начались уже заграничные аукционы, предметы из разных категорий нередко смешивали. Для шедевров русской культуры это имело чудовищные последствия.
В Эрмитаж приезжали сотрудники государственной конторы «Антиквариат» в сопровождении чекистов и отбирали на продажу понравившиеся им экспонаты, просто указывая на соответствующие инвентарные номера.
Нельзя сказать, что в «Антиквариате», который занимался сбытом нашего национального достояния за рубеж, совсем не имелось искусствоведов.
Там работали и люди, разбиравшиеся в искусстве, специалисты с дореволюционным стажем. Но в «Антиквариате» решения принимали в основном не они, а партийные функционеры. Особая искусствоведческая и психологическая катастрофа состояла ещё и в том, что тогда составлялись планы на продажу экспонатов.
И в зависимости от их выполнения Эрмитаж получал финансирование на реставрационные работы и зарплаты своих сотрудников. Если вдуматься, то это была просто чудовищная ситуация. То есть музей существовал, продавая самое себя…
Придумало проводить эти злосчастные заграничные аукционы Политбюро ЦК ВКП (б). В этом можно убедиться, если посмотреть на соответствующий протокол заседания Политбюро от 16 августа 1928 года, где содержится информация о создании комиссии для «срочного выделения для экспорта картин и музейных ценностей на сумму 30 миллионов рублей».
Подготовкой этих аукционов занималась немецкая фирма «Лепке». Первый из них состоялся в Берлине в ноябре 1928 года. Позже аукционную распродажу ценностей из Эрмитажа и других советских музеев большевики устроили также ещё и в Швеции, Австрии и Швейцарии.
Но ни один заграничный аукцион по продаже художественных ценностей не принёс тех денег, на которые рассчитывала советская власть. Сказалась скандальная атмосфера – ведь на аукционах в Германии эмигранты, в том числе весьма именитые (например, Юсуповы), узнавали сокровища своих оставленных на Родине коллекций. Это не могло остаться незамеченным, в том числе и в юридическом смысле. Были и суды, но они заглохли: Германия ведь признала Советскую Россию и, следовательно, национализацию.
Так что иски бывших владельцев были отклонены, но, как говорится, осадок остался. Да и вообще: какой смысл было платить дорого, если можно было добиться того, чтобы купить почти за бесценок? Многие шедевры уходили зарубежным коллекционерам или в музеи по очень низким ценам. А некоторые, к счастью, вовсе не были проданы и вернулись в Россию.
Какой был масштаб потерь для русской культуры? Невосполнимый. Наша страна навсегда лишилась 48 шедевров мирового значения из коллекции Эрмитажа. Как, например, определить стоимость потерянных нашей страной работ Рембрандта, Рубенса, Ван Эйка или Ван Дейка?
Главной гордостью Эрмитажа всегда была голландская коллекция. Но после распродаж наша страна лишилась всех картин Яна Ван Эйка. Сейчас в России их нет совсем. У нас были четыре произведения Рафаэля, а теперь остались только два.
Лишь случайность спасла от продажи на Запад картину Рафаэля «Мадонна с безбородым Иосифом». Её не купили только из-за того, что картину переложили с дерева на холст, что в то время ценители искусства не любили. То же самое едва не случилось с другим шедевром – полотном Рембрандта «Возвращение блудного сына», которое, слава богу, оказалось слишком большим для транспортировки за границу.
Эрмитаж в своё время сделал мужественный и исторически важный проект. Он договаривался с музеями, где находятся картины, «происходящие» из Эрмитажа, и привозил их на выставки. Чтобы люди увидели то, что было национальным достоянием – увы, проданным с молотка… Очень назидательный был проект.
Причём в то время из экспозиции Эрмитажа на реализацию за рубеж изымали не только картины, но и другие произведения искусства. Именно тогда наша страна лишилась части бесценной коллекции скифского золота, которая теперь хранится в Оксфорде и Кембридже. Как я уже сказала, на Запад ушли и другие, не эрмитажные ценнейшие коллекции. Многие крупные музеи сильно пострадали в результате кампании по распродаже ценностей.
Но потери русской культуры могли быть ещё больше. Как ни странно, нам помогла Великая депрессия, начавшаяся в США в 1929 году. Мировой экономический кризис обрушил глобальный рынок антиквариата.
Что касается Меллона (министр финансов США и миллионер), то он, будучи миллионером, приобретал наши шедевры для личной коллекции. Известно, что только в 1930–1931 годах он купил в СССР 21 картину высочайшего художественного уровня. Он отбирал все эти шедевры по «аукционному» каталогу 1923 года, а потом в Эрмитаж приходили телеграммы от наркома просвещения Андрея Бубнова с требованием удовлетворить запросы Меллона.
Но потом у него начались серьёзные проблемы на родине. В 1932 году выяснилось, что Меллон не заплатил налоги на астрономические суммы. Как обычно бывает в подобных случаях в Америке, разразился большой скандал, его немедленно сняли с должности министра. Чтобы не попасть в тюрьму, Меллону пришлось всю свою коллекцию отдать в дар американскому народу. Он основал в Вашингтоне Национальную галерею искусства, значительная часть экспонатов которой состоит из шедевров, проданных Меллону из собрания Эрмитажа.
В Национальной галерее искусства в Вашингтоне не указано, что многие её экспонаты раньше хранились в русском Эрмитаже. И подобная порочная практика, к сожалению, существует и в других зарубежных музеях, в которых оказались наши художественные ценности, проданные на рубеже 1920–1930 годов. Конечно, это некорректно. Впрочем, надо заметить, что далеко не во всех российских музеях, как и в музеях всего постсоветского пространства, есть указания о том, кому принадлежали их экспонаты до 1917 года.
И в Музее Галуста Гюльбенкяна в Лиссабоне, другом крупнейшем заграничном хранилище проданных сокровищ Эрмитажа, такие указания не существуют.
Их практически нигде нет, разве что в специализированных каталогах. Провенанс (информация о происхождении) существует в документах, имеющихся в музейных фондах, разумеется. Но не в подписях к экспонатам в залах. Гюльбенкян, кстати, тоже был крупнейшим скупщиком российских художественных ценностей.
Но сейчас я хочу обратить внимание на другой важный нюанс. Помните фильм советского режиссёра Эдмонда Кеосаяна «Корона Российской империи, или Снова неуловимые», где доблестные юные чекисты противостоят злым и карикатурным белоэмигрантам, якобы пытающимся выкрасть из советского музея Большую императорскую корону?
Мне он нравится. Хотя бы потому, что в нём очень много смелых по тому времени подтекстов. В частности, прекрасную и в высшем смысле патриотическую песню «Русское поле» поёт белогвардейский поручик. Так вот: там есть эпизод, когда экскурсовод в музее произносит очень необычный для советского времени монолог:
«В стране ещё голод и разруха. Не продать ли всё это? Сменять на сахар, хлеб, одежду. Нет – вы это не сделаете никогда. Вы должны сохранить сокровища, потому что они неотделимы от истории нашей, истории беды и величия России».
Создатели фильма посчитали нужным эту позицию обозначить хотя бы таким образом: ведь и тогда невозможно было говорить о том позоре 1920–1930 годов… Кстати, экспонаты из музейных фондов в то время советская власть реализовывала не только за границей, но и на аукционах внутри страны.
Тут уже вспоминается сюжет «Двенадцати стульев» Ильфа и Петрова.
Да, там очень чётко описано, как всё это происходило. Например, в Ленинграде одна из подобных торговых точек находилась непосредственно в Зимнем дворце. Этот аукцион весьма активно работал. Эрмитажные исследователи, например, обнаружили, что на одном таком аукционе кооператив сотрудников ОГПУ приобрёл полотно под названием «Вера, надежда, любовь». Я сразу представила, как эта картина смотрелась в кабинете следователя…
Конечно, сотрудники Эрмитажа сопротивлялись распродажам, нередко рискуя не только свободой, но и жизнью. Для этого они использовали разные способы. Иногда, пользуясь художественной безграмотностью работников «Антиквариата», музейщики отдавали им не те полотна, которые те требовали, а похожие.
Были и другие ухищрения. Но когда люди из «Антиквариата» вооружались каталогом фирмы «Липке», где каждый предмет из коллекции Эрмитажа имел не только наименование, но и инвентарный номер, противостоять этому было невозможно.
Тогда в ход пошли письма самому высокому начальству. В 1932 году директор Эрмитажа Борис Легран предложил своему заместителю Иосифу Орбели написать Сталину пистьмо с просьбой оградить от распродажи сектор Востока Эрмитажа. Легран отправил это послание через секретаря ЦИК Авеля Енукидзе, которого хорошо знал.
Енукидзе в тот период был у вождя в фаворе. Не знаю, это ли сыграло свою роль или какие-либо иные факторы, но вскоре из Кремля пришёл положительный ответ, который музейщики Эрмитажа использовали как охранную грамоту для восточной коллекции.
Но главный удар распродаж был нанесён не восточному искусству, а западноевропейскому. И тут защиты от посягательств сотрудников «Антиквариата» не имелось, хотя после ответа Сталина на письмо Орбели сотрудники Эрмитажа пытались отнести к сектору Востока многие предметы западноевропейского искусства. Но однажды заведующая отделом Запада Татьяна Лиловая случайно увидела на столе одного из руководителей «Антиквариата» список эрмитажных реликвий, готовившихся к продаже за границу.
Среди них были «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи (это единственная его работа, хранящаяся в нашей стране!), «Хозяйка и служанка» Питера де Хоха, «Юдифь» Джорджоне (это тоже единственная его картина в России) и ещё несколько шедевров аналогичного уровня. Лиловая от увиденного пришла в ужас и написана ещё одно письмо Сталину.
Текст она сформулировала, умело используя в нём официозную советскую риторику, написав, что лишить Эрмитаж и страну этих картин равносильно тому, что вычеркнуть имя Сталина из истории партии. Отклика не последовало.
В 1933–1934 годах эти позорные заграничные распродажи постепенно прекратились. К тому времени мировая экономика ещё не оправилась от Великой депрессии. В условиях низких цен на драгоценные металлы и антиквариат больших доходов от этих распродаж не было, но, как мы уже говорили, они приносили нашей стране тяжелейший репутационный ущерб на международной арене. Кроме того – и это главное – пропала необходимость. Страна всё же выбралась из разрухи 1920‑х.
В истории известны случаи, когда императоры или министры продавали части свои коллекций. Подчеркнём – своих, не государственных. Но всегда, и в дореволюционной России в том числе, считалось, что покупка художественных ценностей, сокровищ искусства – признак могущества государства.
Именно этим принципом руководствовалась Екатерина Великая, когда после Семилетней войны купила в Германии коллекцию картин, чтобы «утереть нос» Фридриху II, который изначально намеревался их приобрести, но не смог из-за оскудения казны. Русская казна тоже была пустоватой в тот момент, но императрица прагматично решила, что эффект от покупки дороже денег. И она оказалась права.
Кстати, именно это собрание стало «закладным камнем» основанного ею в 1764 году Эрмитажа. Вот такая историческая антитеза – Екатерина в сложный период для страны покупала искусство на Западе, а большевики в период кризиса его туда продавали.
Сейчас до сих пор немало персонажей, пытающихся оправдать эти сталинские распродажи российского культурного достояния на рубеже 1920–1930‑х годов нуждами индустриализации или необходимостью повысить обороноспособность нашей страны накануне грядущей войны.
Пусть найдут в себе интеллектуальные силы изучать и анализировать историю по различным подлинным документам, а не по советским изданиям материалов съездов КПСС, «Краткому курсу ВКП (б)» и им подобным.
Почти никогда нельзя сказать, все документы рассекречены и доступны или нет, поскольку неизвестно, сколько их и в каких архивах они находятся. Но большое количество материалов в постсоветское время опубликовано и открыто исследователям. В своё время Эрмитаж, например, вёл серьёзную работу, связанную с публикацией документов о распродажах. Эта работа важна и для искусствоведов, и для исследователей советского периода нашей истории, да и для всех, кто хочет знать прошлое своей страны, а не «питаться» мифами.
Вышло несколько томов с документами в серии «Эрмитажные распродажи». Но в одночасье, в 2016 году, эта деятельность была «заморожена». В музее о причинах этого говорят подчёркнуто невнятно и глухо, о возможности возобновления публикации документов – тоже. И эта пауза, затянувшаяся на пять лет, наводит на невесёлые мысли…
Я уже говорила, что ущерб, нанесённый нашей культуре в 1920–1930 годы, не оценить и не восполнить. Вексельберг смог выкупить пасхальные яйца, потому что они находились в частной коллекции. Но большинство произведений искусства, проданных в 1920–1930 годы, как мы уже говорили, принадлежит крупнейшим мировым музеям. С юридической точки зрения эти музеи владеют ими совершенно законно. Естественно, никто не станет продавать их обратно.
Таким образом, деньги на «сталинскую индустриализацию брались либо с отобранных у «буржуев» и проданных на Запад ценностей, либо с проданного зерна – отобранного у крестьян ценой голода и миллионов жертв. При этом в качестве рабочих строили все эти военные заводы в основном заключённые ГУЛАГа – карта лагерей которого фактически в точности совпадает со сталинскими «новостройками».
По факту – в ходе своей «индустриализации» большевики уничтожили миллионы людей, сгноив их в концлагерях и в оцепленных войсками голодающих сёлах и лишились тем самым нормального будущего – уничтожив генофонд и построив взамен несколько заводов, устаревших через пару десятилетий.
А теперь давайте посмотрим, что было до Сталина и его уродливой «индустриализации». Не идеализируя царскую Россию, нужно признать факты – в начале XX века эта страна довольно быстро развивалась и её промышленные мощности росли буквально с каждым месяцем. Беда в том, что сейчас достаточно трудно найти реальную статистику – в советские времена всё было тщательно подчищено и переписано на совковый лад, но даже то немногое, что осталось, впечатляет.
Самое главное и основное отличие – дореволюционное промышленное развитие происходило без жертв, без ГУЛАГа и без убийства и ограбления миллионов – а просто естественным путём, при помощи разумного предпринимательства и частной инициативы.
Следует просто вспомнить, как развивалась цивилизация в начале XX века – здесь Россия шла в ногу с европейскими странами. В городах строились электростанции и проводилось электричество. В домах была горячая вода, ванны и канализация. Более того – сами дома и квартиры были шикарными, многие до сих пор считают доходные дома периода 1900–1917 годов лучшим, что было в городской архитектуре в принципе. Посмотрите на Санкт-Петербург – всё его великолепие было построено не при Петре Первом (как думают многие), при Петре строились 2–3-этажные домики с деревянными балками, и ещё в середине XIX века Петербург был преимущественно деревянным городом. Все его шикарные 5–8‑этажные дома были построены, в основном, в период 1890–1917 годов. В городах появлялись электрические трамваи и телефоны.
А что было на селе? Совки рисуют нам картины ободранных бомжей в лаптях – но так выглядели далеко не все крестьяне. Инициативные люди зарабатывали на селе немалые деньги – вы могли, например, взят кредит, купить технику и обрабатывать свою землю, получая доходы. Техники было полно – к примеру, мотоплуг Штокка (фактически трактор) мог купить любой желающий – за наличные либо в кредит. Делались плуги, кстати, совместым предприятием – в России осуществлялась крупноузловая сборка и сервис.
Ещё верите в сказки, что впервые комбайн на селе увидели только при коммуняках?
Фирма «Артур Коппель» – совместного российско-германского предприятия, выпускала очень сложные машины – от паровозов до камнесверлильных аппаратов. По тем временам – это вершины технического прогресса.
Локомобили, аэропланы и гидропланы. В СССР рассказывали сказки, что самолёт изобрели чуть ли не в совке, замалчивая тот факт, что в Первую мировую войну у России уже был собственный воздушный флот.
Очень важный момент, который также необходимо понять, – развитие промышленной и военной техники в дореволюционные годы шло в ногу с остальными европейскими странами, создавалось множество СП и собственных предприятий, и, что ещё очень важно, – это никак не мешало развитию бытовой техники и полезных вещей для людей. В свободной продаже были автомобили, велосипеды, печатные машинки, граммофоны, телефоны и все другие новинки.
После переворота большевики просто отобрали и переименовали старые царские заводы – например, фабрику галош «Треугольник» переименовали в «Красный треугольник» – и тем самым это моментально стал «советский» завод. А позже стали заказывать строительство заводов (в основном, военных) на Западе – будучи не в состоянии самостоятельно что-то построить, большевики могли только приглашать иностранных специалистов за отобранные у ограбленного народа деньги.
Без совка и сталинизма всё было бы только лучше – всё развивалось бы естественным путём, без «раскулачиваний», без миллионов жертв и без бесплатных рабов из ГУЛАГа.
Как сооружались «сталинские объекты индустрии», можно рассмотреть на примерах.
Наблюдая всё нарастающий за последние годы поток претензий и ненависти со стороны части жителей Украины в адрес России, хочется услышать от таких громадян конкретные примеры – чем же им насолили соседи-россияне в союзные времена? Но понимая, что ответы получить не удастся, попробуем пойти методом «от обратного» и взглянем на то, чем пожертвовала в своё время «большая» Россия ради украинских успехов в развитии. Весьма красноречивый пример – создание одного из флагманов энергетики нынешней Незалежной.
Когда слышишь высказывания тамошних политиков, обвиняющих наше государство в вековом притеснении украинцев, возникает желание воскликнуть: «Мы же для вас во времена СССР столько хорошего сделали, порой себе, то есть России, в ущерб; а вы теперь нас же и мордуете!»
Среди самых значительных российских жертвоприношений на украинский алтарь можно упомянуть историю почти вековой давности, связанную со строительством ДнепроГЭСа – легендарной электростанции на Днепре.
История этого грандиозного гидротехнического проекта начинается с первых лет советской власти. Ещё в раннем, «ленинском» плане ГОЭЛРО предполагалось построить крупную гидроэлектростанцию в районе Запорожья. Однако тогда приступить к осуществлению задуманного не удалось: у Страны Советов, разорённой годами войн и революций, просто не было средств и технических возможностей. Ленин до воплощения смелого плана «оседлать днепровские пороги» не дожил. Но уже вскоре после его смерти у идеи строительства ДнепроГЭСа появился новый весьма влиятельный сторонник – Троцкий.
Тут в ситуацию вмешалась партийно-идеологическая борьба: набирающий силу в руководстве страны Сталин, оппонируя «пламенному Льву» по большинству вопросов партийного и государственного развития, заодно ополчился и на продвигаемую им идею днепровской гидроэлектростанции: «Товарищ Троцкий думает подхлёстывать наши центральные учреждения… преувеличенными планами промышленного строительства. Но преувеличенные планы промышленного строительства – плохое средство для подхлёстывания. Ибо что такое преувеличенный промышленный план? Это есть план, составленный не по средствам, план, оторванный от наших финансовых и иных возможностей».
Споры вокруг проекта новой гидростанции усугубляла география. Ведь новый энергетический гигант должен был появиться на территории Украинской ССР, а потому здешние республиканские власти очень ревниво относились к задержкам в принятии решения. Дело дошло до внутрисоюзного противостояния: УССР ратовала за то, чтобы в качестве приоритетного проекта для всей страны был выбран ДнепроГЭС, а руководители РСФСР настаивали на «российском» варианте «главной стройки социализма» – прокладке Волго-Донского канала. При этом союзное руководство спорщикам объясняло, что одновременно вытянуть две столь грандиозные строительные эпопеи СССР не сможет.
Впрочем, ситуация сдвинулась вскоре в нужную именно украинским товарищам сторону. К концу 1926‑го партийная верхушка во главе со Сталиным изменила свои взгляды на «днепрогэсовский» вопрос. На состоявшейся осенью 1926 года XV партконференции ВКП (б) был провозглашён инициированный Иосифом Виссарионовичем тезис «о построении социализма в отдельно взятой стране». Но для такого «построения» необходимо ускорить развитие промышленности в Союзе, что в свою очередь требовало достаточного обеспечения электроэнергией. Поэтому, вроде как «забыв» о существовании прежних предложений Троцкого, вместо них выдвинули уже «сталинский» вариант, который пошёл в народ призывом «Даёшь ДнепроГЭС!».
31 января 1927 года Политбюро приняло решение о строительстве на Днепре новой, самой мощной советской электростанции, вслед за тем соответствующий документ был подписан в Совнаркоме. Сооружение ДнепроГЭСа получило статус первоочередной стройки в СССР. Что же касается проекта-конкурента, предлагавшегося на территории РСФСР, – прокладки судоходного канала между Волгой и Доном, – то его отложили на более позднее время (в итоге «Волго-Дон» был открыт лишь в начале 1950‑х).



