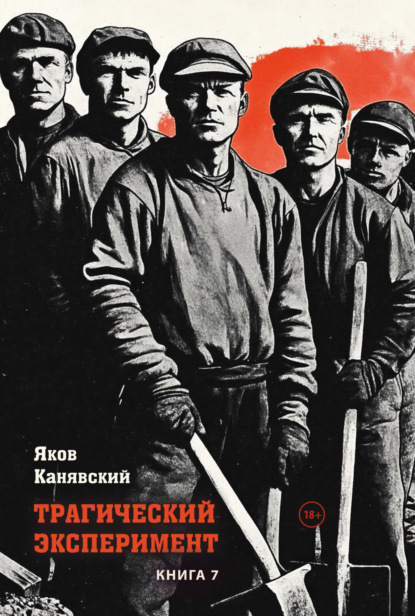
Полная версия:
Трагический эксперимент. Книга 7
Вскоре после Х съезда РКП (б), 21 марта 1921 года, был введён продналог. Он пришёл на смену продразвёрстке как части политики «военного коммунизма», когда революционные отряды обменивали у крестьян продовольствие на промтовары, а «излишки» забирали силой. Нарком продовольствия А. Цурюпа писал: «У нас нет другого выхода, как объявить войну деревенской буржуазии, которая имеет значительные запасы хлеба даже недалеко от Москвы…»
Продналог стал первым законодательным актом новой экономической политики. Крестьяне же, однако, не забывали, что ещё 27 октября 1917 года II Всероссийский съезд Советов принял Декрет о земле. И его первый пункт гласил: помещичья собственность на землю отменяется без всякого выкупа и передаётся в распоряжение местных земельных комитетов и уездных Советов. Крестьяне ждали, что наконец-то станут хозяевами земли. Но всё происходило не так, как звучало на съезде и в лозунгах.
Мировая война, революция, война гражданская, интервенция нанесли крестьянству невиданный ущерб – пожалуй, как никакой другой части населения. Были разорены тысячи деревень, заброшены миллионы гектаров пашни. Повсюду в стране начинался голод. Буржуазия пыталась использовать его для подавления новой власти. А той надо было, спасая людей, спасать себя. Вот и ввели продразвёрстку. Но довольно быстро Ленин осознал, что она вызывает у крестьян ненависть к власти большевиков, и предложил ввести в рамках НЭПа продналог – часть продукции закупать по рыночным ценам. Людям стало легче, но вскоре, уже летом, грянула засуха.
По рассказам очевидцев, тогда в Уфе, например, по городу ездили волы, запряжённые в арбы. Погоняли их мужики – по два с каждой стороны арбы. Подбирали на улицах лежащих, ползающих и стонущих голодных людей, забрасывали в арбу и вывозили за город. Там сбрасывали в овраги и засыпáли землёй…
После введения НЭПа, рассказывали, будто упала манна небесная – стали появляться хорошие и дешёвые продукты. Крестьяне, исстрадавшиеся по своему делу, в ожидании обещанной передачи земли трудились не покладая рук. И опять мало чего дождались. Опасаясь реставрации капитализма, правительство довольно скоро прихлопнуло НЭП, а крестьянам оставалось жить надеждой, что землю им всё-таки дадут.
Долго не удавалось повысить урожайность зерновых в сравнении с царским временем. И всё же (без тракторов и комбайнов!) с 1922 по 1928 год сбор зерна вырос с 36 до 77 млн тонн. Поголовье крупного рогатого скота, другой живности увеличилось на треть. Сказывалось воздействие НЭПа, хотя крестьяне, работая с невероятным напряжением, жили по-прежнему бедно…
В июне 1928‑го на Пленуме ЦК ВКП (б) И. В. Сталин обосновал теорию обострения классовой борьбы по мере продвижения к социализму. Вскоре сам возглавил заготовку зерна в Сибири. Закупочная цена, которую он называл крестьянам, их не устраивала. Возмущению Сталина не было предела. Решил, что нужно силой взять хлеб у зажиточных земледельцев. Были созданы специальные тройки, их решения стали обязательны для исполнения крестьянами. Кроме того, генсек заявил, что государство не должно зависеть от мелких хозяйств, их надо укрупнять. Если кулак – зажиточный крестьянин, не хочет вступать в колхоз, имущество его – конфисковать, семью – сослать на работу в глухие районы.
Что в то время происходило в деревнях, можно судить по рассказу очевидцев:
«В отличие от семьи моей матери, где все были загнаны в колхоз и находились там до смерти “великого кормчего”, родители моего отца сумели избежать подобной доли, хотя и жили изначально в селе Романово Новосибирской области. После изменений уклада сельской жизни, вызванной революционными катаклизмами, народ стал задумываться, а как бы выжить в создавшейся ситуации. На то, что жить в ближайшее время будет “лучше и веселее”, сельский люд как-то не надеялся. Первыми признаками такого уныния стала организация комитета бедноты, в который председателем “комбеда” был избран самый-самый бедный из жителей деревни. Действительно, был он самый-самый, потому что всё пропил в своё время, и, несмотря на наличие земли, находился на грани голода, а потому ему приходилось постоянно попрошайничать. И тут ему улыбнулась удача – человек получил портфель. Пользовался этот руководитель очень дурной славой, так как даже его внешний вид многих обескураживал. Дело в том, что из-за отсутствия какой-либо запасной одежды носил этот персонаж телогрейку, которую никогда не снимал. Пуговиц на ней не было, а чтобы она не распахивалась, он зашил её снаружи нитками. В баню он не ходил, гигиену не соблюдал, и от того дух от него исходил, как от последнего бомжа, какие ещё до недавнего времени тёрлись у входа в метро на Ленинградском вокзале. Естественно, что кроме всеобщего презрения он у людей не вызывал. А тут вдруг по рекомендации партийных органов привалило ему такое счастье. И стал новоиспечённый руководитель ходить по деревне в своей фуфайке с папкой под мышкой и учить народ жить. Это был мощный сигнал местному населению, что из деревни надо валить. К тому же пошли слухи о надвигающихся колхозах, от которых сельским труженикам становилось худо.
К счастью, при отсутствии колхоза народ ещё жёстко к земле не привязывали, и дед решил вместе с семьёй уехать в город. Город не город, а прибиться удалось на каком-то полустанке, где новосёлам досталось ветхое служебное жильё, так как дед устроился работать на железной дороге путевым обходчиком. Потом было ещё одно “великое переселение”, когда дед устроился работать на шахту, где, заработав силикоз, окончательно сгубил своё здоровье. Но это уже другая история из колхозного времени».
Другие очевидцы тех событий вспоминали:
«Бедные крестьяне охотно записывались в члены колхоза. Те же, кто был побогаче, отказывались. Собрания проводили во всех сёлах. Но это не помогало. Вскоре стали действовать иначе. У меня на столе лежала разнарядка из губернии – сколько крестьян оформить в колхоз. Вызывая повесткой хозяина каждого двора, я клал на стол пистолет – на видное место. Когда человек входил, его взгляд останавливался на оружии. Слушал меня как заворожённый, кивал головой и ставил крестик в ведомости: согласен. Тех, кто отказывался, раскулачивали: отбирали имущество, семью отправляли на “сталинские стройки”».
В 1929‑м на Всесоюзной конференции аграрников-марксистов Сталин заявил: «Без колхозов мы не проведём индустриализации, не вытравим из многомиллионного крестьянства капиталистических корней». В 1933‑м Сталин получил письмо от М. Шолохова. Писатель сообщал о произволе при заготовке хлеба на Дону. Сталин ответил, что «уважаемые хлеборобы вашего района (и не только вашего района) проводили “итальянку” (саботаж!) и не прочь были оставить рабочих, Красную армию – без хлеба. Тот факт, что саботаж был тихий и внешне безобидный (без крови), – этот факт не меняет того, что уважаемые хлеборобы по сути дела вели “тихую” войну с советской властью. Войну на измор, дорогой тов. Шолохов».
Главной причиной устроенного большевиками «великого перелома» являлось стремление практически даром получать продовольствие для бурно растущих городов и армии. Товарность сельского хозяйства в 1920‑х годах составляла 15–20 процентов, иными словами, одного рабочего или солдата должны были кормить пять-шесть крестьянских дворов. С такими ли ресурсами мечтать о мировой победе коммунизма?
Разумеется, был иной путь: повышать эффективность аграрного сектора путём концентрации земли в руках крепких хозяев, заинтересовать крестьян зарабатывать деньги через развитие производства потребительских товаров. Но для советской власти он был абсолютно неприемлем. Это что же: частнособственнические инстинкты поощрять? Вместо оружия выпуск зеркальных трюмо и велосипедов разворачивать?
В основном завершив к 1932 году коллективизацию, Сталин выполнил половину задачи. Теперь предстояло приучить крестьян трудиться в общественном секторе «за палочки», и не отлынивать.
Методы выбивания хлебопоставок в 1932 году на примере его родной станицы Вёшенская ярко описал Михаил Шолохов в знаменитом письме Сталину. Но и этого оказалось недостаточно.
В 1930 году в счёт госпоставок на Украине у крестьян забрали 30 % выращенного зерна, а на Северном Кавказе 38 %, в 1931 году соответственно 42 и 47 процентов.
В 1932 году, выдавшемся неурожайным, план подняли ещё на треть. Со всей страны посыпались доклады, что задание нереально. Однако власть решила показать, что давить на жалость бесполезно.
«Крестьянин хочет удушить советское правительство костлявой рукой голода. Мы покажем ему, что такое голод», – заявил на собрании республиканского актива партийный вождь Украины Станислав Косиор.
В колхозах, не выполнивших хлебозаготовительный план, велено было изъять не только всё зерно, вплоть до семенного фонда, но и домашние запасы овощей, солений и сала.
Значительная часть конфискованных продуктов пропадала, но действовал принцип: лучше сгноить, чем людям отдать.
При этом в 1932–1933 годах на экспорт отправили 3,41 млн тонн зерна, 47 тысяч тонн мясомолочных продуктов, 54 тысячи тонн рыбы по таким низким ценам, что зарубежные партнёры обвиняли советское государство в демпинге.
В результате голод охватил территории с населением в 30 миллионов человек.
На Украине, по данным современного исследователя Станислава Кульчицкого, умерли 3 миллиона 238 тысяч человек, не считая демографических потерь от вынужденной миграции и резкого, примерно вдвое, снижения рождаемости.
Население Казахстана, где отбирали не хлеб, а скот, сократилось с шести до трёх миллионов человек.
В Российской Федерации, где картошку и лук крестьянам всё-таки оставили, погибли «всего» 400 тысяч человек. Однако, по информации американского биографа Бориса Ельцина Тимоти Колтона, случаи каннибализма имели место и в уральском селе Бутка, где родился первый президент России.
«Каждую ночь в Харькове собирают по 250 трупов умерших от голода. Замечено, что большое число из них не имеют печени, из которой готовят пирожки и торгуют ими на рынке», – докладывал в Рим итальянский консул.
7 августа 1932 года вышел закон «Об усилении уголовной ответственности за кражу и расхищение социалистической собственности», более известный, как «закон о трёх колосках», по которому только по декабрь 1933 года были репрессированы 125 тысяч доведённых голодом до отчаяния людей, из них 5400 расстреляны.
Народ ринулся в поисках пропитания в города. Ответом стало постановление правительства от 22 января 1933 года за подписями Молотова и Сталина: «массовый исход крестьян организован врагами советской власти, контрреволюционерами и польскими агентами… запретить всеми возможными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного Кавказа в города».
Обречённые районы оцеплялись войсками. Только за первый месяц действия постановления ОГПУ отрапортовало о задержании 219460 человек.
«За неделю была создана служба по поимке брошенных детей. Тех, кто ещё мог выжить, отправляли в бараки на Голодной Горе. Слабых отправляли в товарных поездах за город, и оставляли умирать вдали от людей. По прибытии вагонов покойников выгружали в заранее выкопанные большие рвы», – информировал итальянский консул в Харькове.
Бывшие узники ГУЛАГа, опрошенные Александром Солженицыным, свидетельствовали, что в ряде случаев крестьяне прибивались к лагерям, и заключённые их подкармливали.
В августе 1933 года газета New York Herald Tribune опубликовала материал Ральфа Барнса, в котором фигурировала цифра «один миллион смертей от голода». Американская общественность сочла её неправдоподобной. Иностранцев после этого перестали пускать в поражённые голодом регионы.
В Казахстане жертвами конфискации скота и принудительной коллективизации стало около половины всего казахского населения республики. В Украине эти страшные времена называют голодомор. В Казахстане – Великий джут. Споры о причинах трагедии не утихают до сих пор. Одни обвиняют Сталина и его окружение в умышленном геноциде казахского народа, а другие во всём винят руководство Казахской АССР. Доктор исторических наук профессор Талас Омарбеков изучал эту трагедию в течение долгого времени.
– Прологом к трагедии стала индустриализация, курс на которую в 1924 году объявил Иосиф Сталин, – рассказывает Талас Омарбеков. – Но для этого необходимо было закупать в европейских странах и США станки, тракторы и другую технику. Взамен продавцы потребовали у СССР золото и зерно. Но когда в 1927 году поставки зерна резко снизились, Сталину доложили, что кулаки и земледельцы бойкотируют сдачу хлеба. Тогда в начале 1928 года генсек в секретном правительственном поезде совершает своё знаменитое путешествие из Москвы в Иркутск. На крупных станциях по пути следования – в Омске, Томске, Новосибирске Иркутске – местные власти собирали зажиточных крестьян, и Сталин приказывал им увеличить сдачу зерна. Тех, у кого обнаруживали даже незначительное количество хлеба, по 107‑й статье на три года отправляли в тюрьму.
После 1928 года так же действовало и руководство Казахской АССР. Но главной причиной гибели людей здесь послужили не зернозаготовки, а мясопоставки.
Сталин велел прежде всего накормить мясом Ленинград и Москву, потом все крупные города и Красную армию. Западные регионы Казахстана должны были обеспечить поставки мяса на Северный Кавказ, Южный Казахстан – в хлопководческие центры Узбекистана: Самарканд, Ташкент и Наманган. На севере возникли чрезвычайные организации «Москва-Мясо» и «Ленинград-Мясо», а потом «Союз-Мясо». Их начальство подчинялось напрямую Сталину.
И всех жителей республики – и казахов, и людей других национальностей – обязали сдать всю живность, до последнего барана! Работая в архиве, я нашёл телеграмму, отправленную в 1933 году руководителем Кустанайской области руководству республики: «…Мы не можем выполнить задачу по мясопоставкам свинины. В области осталась всего одна свинья».
То, что страшный голод возник именно из-за мясозаготовок, подтверждают архивные данные. Так, в июне 1930 года в Казахстане имелось около 40 миллионов скотопоголовья, а в конце 1933 года – чуть больше 4 миллионов! Остальные 36 миллионов коров, овец, свиней были вывезены из республики в Москву, Ленинград, другие республики…
– Считая основной причиной голода кампанию «Малый Октябрь», объявленную тогдашним руководителем Казахстана Филиппом Исаевичем Голощёкиным (Шая Ицкович), исследователи ошибаются, – полагает Талас Омарбеков. – Собственно сама эта кампания состояла из трёх кампаний.
С 1925 по 1927 год прошла советизация казахского аула: вместо родоправителей назначили бедняков, часто неграмотных. Они же стали председателями аульных советов, сельских советов и даже руководителями районов.
Параллельно шла кампания по передаче пахотных земель беднякам. Голощёкин, не зная специфики Казахстана, прислушивался к советам казахских руководителей – Жандосова и Ходжанова. А те предложили ему уничтожить байство путём передачи земли. Но у казахов не было частной собственности на землю, они пользовались ею на родовой основе! Я думаю, что Жандосов и Ходжанов специально обманули Голощёкина, чтобы его признали бездарным руководителем и отозвали обратно. Как только комиссары с землемерами ушли из аула, бедняки вернули землю своим сородичам. Ведь казахская беднота ни земледелием не занималась, ни скота своего у неё не было.
Через год Голощёкин обнаружил, что баи по-прежнему гласно или негласно правят своими родами. Тут кое-кто из нашей казахской интеллигенции предложил ему конфисковать у баев скот. Это, мол, уничтожит их как класс. И в августе 1928 года Голощёкин в своём письме к Сталину предложил провести в Казахской АССР национализацию скота.
Изучая в Москве сталинский архив, я наткнулся на это послание. Генсек собственноручно зачеркнул слово «национализация» и написал «конфискация». Но если бы советские руководители ограничились конфискацией скота лишь самых крупных скотоводов, до голода бы дело не дошло.
Уполномоченные отбирали коров и овец не только у баев, но и у середняков и бедняков. На каждой крупной станции устраивались забойные площадки, где скот забивали, разделывали, мясо сразу грузили в вагоны и отправляли в Москву, Ленинград и другие крупные города.
Вскоре начались массовые эпидемии среди животных. В то время ни о каком ветеринарном контроле не было и речи, из-за скученности больные животные начали заражать здоровых бруцеллёзом, туберкулёзом. Животных принялись спешно отправлять живьём. За падёж скота руководитель «Союз-Мясо» Смирнов лично угрожал освободить Голощёкина от занимаемой должности и исключить из партии…
– Разные исследователи дают разные цифры, но известно, что в 1930 году в Казахской АССР проживало 5 миллионов 800 тысяч казахов, – продолжает Талас Омарбекович. – По мнению казахстанских историков, во время Великого джута погибло от 1 миллиона 700 тысяч до 2 миллионов 200 тысяч казахов. А известные российские учёные профессора Жеромская и Поляков, изучив Всесоюзную перепись 1937 года, пришли к выводу, что в период 1931–1933 гг. население Казахской АССР сократилось на 3 миллиона 379 тысяч человек. Из них около 2 миллионов откочевали в Китай, Узбекистан, Кыргызстан, Поволжье, Алтайский край и Сибирь. Эти исследования опубликованы в 1990 году в московском журнале социологических исследований «Социс».
В 1997 году в Казахстане была образована сенатская комиссия, в неё вошли 23 депутата, юристы и историки. В их числе был и я. Работая в архиве КНБ РК, мы нашли спецдонесения советских разведчиков с 1931 по 1933 год. Находясь на территории Китая, они каждые 10 суток передавали информацию о том, сколько казахов пересекло китайскую границу.
По моим подсчётам, с 1931 по 1933 год в Китай ушли около 100 тысяч человек, по данным КНБ – около 70 тысяч, эти цифры совпадают с данными китайского правительства.
В московском архиве я нашёл письмо-справку на имя первого руководителя республики – ответственного секретаря Казкрайкома ВКП (б) Левона Мирзояна. В своём послании начальник Казнархозучёта (аналог нынешнего управления статистики) Мухтар Саматов сообщает, что население Казахстана уменьшилось всего… на 971 тысячу человек. Как оказалось, советские руководители намеренно занижали потери населения от голода. Фактически же количество погибших и откочевавших казахов с 1931 по 1933 год составляет более 3 миллионов!
Но в СССР как раз готовилась очередная перепись, в ходе которой правда неизбежно выплыла бы наружу. А Сталин хотел продемонстрировать Западу мощный демографический взрыв и тем самым доказать преимущество социализма перед капитализмом. Но письмо не смогло уберечь от гнева вождя ни его автора, ни адресата.
По окончании переписи 1937 года Сталин вместо прироста населения обнаружил его убыль. Выразив возмущение и недоверие итогом работы переписчиков, Сталин приказал засекретить данные переписи, а всех, кто принимал в ней участие, объявить врагами народа. В числе первых был казнён Мухтар Саматов и его непосредственный начальник, руководитель Всесоюзного нархозучёта Караваль. Кроме того, в Казахстане были расстреляны все без исключения областные и районные руководители нархозучёта – якобы они намеренно уменьшали количество населения и тем самым сыграли на руку врагам СССР.
Через два года, в 1939 году, Сталин вновь провёл Всесоюзную перепись населения, но теперь, помня о судьбе предшественников, сотрудники нархозучёта намеренно завысили число граждан.
Было ли в планах «вождя народов» уничтожить казахское население? Профессор Омарбеков считает, что геноцида не было:
– Жертвой этого ошибочного мнения стали многие наши историки, исследователи, журналисты и писатели, – говорит Талас Омарбекович. – По крайней мере, ни одного подобного документа за подписью Сталина я в архивах не нашёл. Причины голода – в ошибочных реформах руководства страны и республики. Филипп Голощёкин по профессии был зубным техником с четырьмя классами образования, да к тому же не знал особенностей уклада жизни казахов. Ну как он мог предвидеть последствия своей кампанейщины?
ГЕНОЦИД БЫЛ! КЛАССОВЫЙ. Так считает автор книги, главный редактор журнала «Простор» Валерий Михайлов. В Казахстане в издательстве «Мектеп» недавно вышло четвёртое издание его книги «Великий джут».
– Слово «геноцид» буквально значит «уничтожение рода, племени». Однако словари толкуют это понятие узко: истребление отдельных групп населения по расовым, национальным или религиозным признакам. А как же страшный опыт ХХ века, когда большевики вырезали целые классы и сословия? Разве это не было истреблением рода, племени?
То, что геноцид в Казахстане был, – это, бесспорно. Но не этнический, а классовый, сословный. Это был результат насильственной сплошной коллективизации, которую Сталин по значению приравнял к Октябрьской революции. Коллективизация обернулась массовым голодом. Погибли лучшие труженики села, хлеборобы и скотоводы. В России пострадали жители Поволжья, Северного Кавказа, южных регионов страны – все зерносеющие районы, которые жили лучше других. То же самое произошло на Украине.
Эта политика совершалась на селе, в ауле руками тех, кто сам работать не любил и не умел – руками активистов. В Казахстане их называли бельсенди.
Спрашивается, почему большевики были так беспощадны к недавнему союзнику «самого передового класса» – крестьянству? Согласно коммунистической доктрине Маркса и Энгельса, а также их учеников-практиков Ленина и Сталина, любой частный собственник – это враг советской власти. Но если с крупными собственниками всё понятно, то мелкого собственника разглядеть труднее, и чем мельче собственник, тем его труднее «выкорчевать».
Крупных землевладельцев перебили сразу после Октября, а вот с середняками, да заодно и многими бедняками, назвав их эксплуататорами, кулаками, баями и врагами народа, расправились, когда власть окрепла, – в 1929–1933 годах.
Голодные бунты жестоко подавлялись, людей расстреливали, объявив их бандитами. Об этом можно узнать даже из докладов Голощёкина, опубликованных в газете «Советская степь» (предшественница нынешней «Казахстанской правды»).
Казахи оказались беззащитны перед методами властей. Отбери скот в степи – и человеку больше нечем прокормиться.
На Западе у Сталина нашлись адвокаты. Бернард Шоу заявил на пресс-конференции, что никакого голода не видел, лично он никогда в жизни так не обедал, а на вопрос, почему бы ему в таком случае не переселиться в советский рай, ответил, что Британия, несомненно, ад, но он старый грешник, поэтому его место в аду.
«При коллективизации мы потеряли не меньше», – сказал Сталин Черчиллю, обратившемуся к нему с соболезнованиями по поводу больших потерь СССР в войне, добавив, что, по его мнению, «всё это было очень скверно и трудно, но необходимо».
Всесоюзная перепись в январе 1937 года показала «недостачу» населения в восемь миллионов человек по сравнению с расчётной цифрой. Исследование объявили вредительским, все материалы изъяли и засекретили, организаторов расстреляли.
Имеются многочисленные свидетельства людоедства и трупоедства в поражённых голодом районах.
«В колхозе “День урожая” во время прополки на борозде умерло от голода 3 колхозницы. Беднячка Степанова зарезала своего сына 9‑ти лет на питание. При обыске у Никулиных обнаружен в печке чугун, в котором находилась человеческая челюсть», – докладывал в июне 1933 года уполномоченный ОГПУ по Белгородской области Бачинский.
«В станице Должанской Ейского района гражданка Герасименко употребила в пищу труп своей умершей сестры. В станице Ново-Щербиновская жена кулака Елисеенко зарубила и съела своего 3‑летнего ребёнка. На кладбище обнаружено до 30 гробов, из которых трупы исчезли», – говорилось в информации ОГПУ «О голоде в районах Северокавказского края» от 7 марта 1933 года.
Чтобы не портить судебную статистику, дошедших до каннибализма людей, как правило, расстреливали на месте.
«Нам, коммунистам, выдавали по талонам, деревенским активистам тоже, а вот что они жрут – это уму непостижимо! Лягушек, мышей уже нет, кошки ни одной не осталось, траву, солому секут, кору сосновую обдирают, растирают в пыль и пекут из неё лепёшки. Людоедство на каждом шагу.
Сидим мы в сельсовете, вдруг бежит активист, доносит, в такой-то хате девку едят. Собираемся, берём оружие. Семья вся в сборе. Сонные сидят, сытые. В хате пахнет варёным.
«Где дочка? – У город поихала. – А в печи в горшках что? – Та кулиш». Выворачиваю этот “кулиш” в миску – рука с ногтями плавает в жире.
Идут, как сонные мухи. Что с ними делать? Теоретически – надо судить. Но такой статьи – за людоедство – нет. Можно за убийство, но это сколько ж возни, и потом, голод – смягчающее обстоятельство или нет?
В общем, нам инструкцию спустили: решать на местах. Выведем их из села, свернём куда-нибудь в балочку, пошлёпали в затылок из пистолета, слегка землёй присыпали – потом волки съедят», – описывал типичную картину Анатолий Кузнецов в романе «Бабий Яр».

