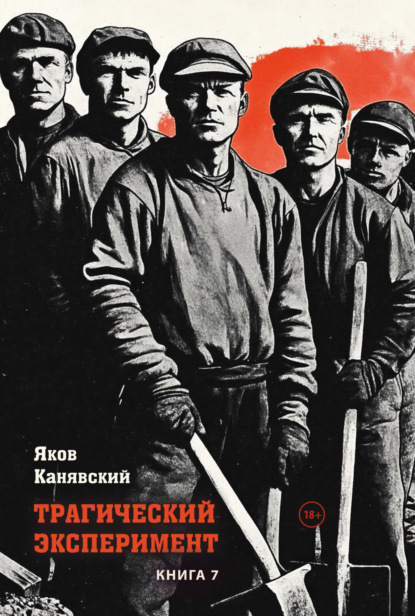
Полная версия:
Трагический эксперимент. Книга 7
С моей точки зрения, идея мировой революции к середине 1930 годов для сталинского руководства не была первостепенной. Идея «мирового пожара» была одной из ведущих после революции, в начале 1920 годов, тогда на её реализацию было потрачено много денег. В 1930 годы Сталин уже сформулировал тезис о возможности победы социализма в одной стране.
Конечно, идея мировой революции окончательно не пропала, она, несомненно, существовала, но, с моей точки зрения, она ушла на второй, а то и на третий план. Внешняя политика Советского Союза в 1930‑е и последующие годы основывалась в большей степени уже на других принципах: его руководители скорее искали союзников на Западе, чем пытались насильственно экспортировать революцию в другие страны.
Высказанная вами гипотеза, конечно, имеет право на жизнь. Действительно торопились индустриализовывать страну, стать сильными и подготовленными с военной точки зрения. Но, на мой взгляд, советское руководство стремилось к этому не для того, чтобы экспортировать мировую революцию. Скорее, целью было получить возможность в предстоящей войне, по меньшей мере, себя защитить, а по большому счёту – может, что-то ещё и прихватить у других.
Мне кажется, было бы слишком прямолинейно утверждать, что индустриализацию делали в интересах мировой революции. Моя точка зрения, с которой многие могут не согласиться, индустриализацию делали для того, чтобы Советский Союз мог не только выжить в капиталистическом окружении, но и усилиться, и необязательно за счёт мировой революции. Каждое государство имеет свои геополитические интересы, и было бы неверно представлять СССР в качестве единственного агрессора.
В этой связи я бы не стала вписывать Торгсин в идею мировой революции. В книге я вписала Торгсин в реализацию идеи форсированной индустриализации и моё понимание сталинизма. Сталинизм не только коммунистическая идея, идеология и тоталитарный режим, но и система социально-экономических и даже рыночных институтов, как Торгсин. Сталинизм определялся приоритетами индустриализации, целью которой было построение современного технологического общества, способного защитить себя и решить свои внутренние и внешнеполитические задачи.
Думаю, этот путь изначально предполагал необходимость идейных и экономических компромиссов. Советское руководство считало, что в критических ситуациях можно поступиться некоторыми идеологическими и социально-экономическими принципами. Торгсин возник как импровизация в определённых условиях, но как конечный продукт он является частью сталинизма. В нём видны и политические идеи сталинизма, и его методы, а больше всего социально-экономическая составляющая сталинизма – индустриальные приоритеты, подчинение, иногда даже идеологии, интересам промышленного рывка.
Архивные документы, ссылки на которые есть в книге, свидетельствуют о том, что, когда в советских и партийных верхах шло обсуждение идеи Торгсина, ОГПУ выступало против, считая допущение советских людей в Торгсин нецелесообразным. Для ОГПУ такое допущение означало дополнительную «головную боль»: допуск в Торгсин советского человека означал расширение валютных операций в стране, расширение и чёрного валютного рынка, ответственность за борьбу с которым лежала на ОГПУ. Только после того, как Политбюро решило допустить советских покупателей в Торгсин, ОГПУ пришлось участвовать в этой операции. Со временем ОГПУ стало приспосабливать Торгсин под себя – следило за покупателями, выявляя «держателей ценностей», а затем проводило аресты, обыски их квартир и конфискации. В конце концов, сотрудничать с Торгсином оказалось выгоднее, чем конфликтовать.
– Как проходила «сталинская индустриализация» теперь понятно. – заключил Аркадий. – А своими силами в стране в те годы что-нибудь разрабатывалось?
Семён некоторое время вспоминал, а потом воскликнул:
– Вспомнил! В качестве примера собственной отечественной разработки можно рассмотреть советские машины на дровах и шишках.
В автомобилях были установлены газогенераторы, которые производили из древесины генераторный газ, благодаря которому автомобиль и ехал.
Что самое интересное, ни в одном советском фильме вы практически никогда не увидите такой автомобиль – их стыдливо прятали, рассказывая сказки о невероятно растущей мощности коммунизма, а фотографа, снявшего коптящий и чадящий газогенераторный автомобиль на улице города, могли обвинить в «очернении советской действительности».
Советские автомобили и грузовики на дровяном топливе разрабатывались с 1920‑х годов, но массово начали внедряться в тридцатые годы. Зачем вообще в СССР разрабатывалась такая бесперспективная технология? Ведь газогенераторные машины имеют сложные и склонные к поломкам схемы, имеют низкий КПД и неудобство в эксплуатации – водителю постоянно приходится выходить из кабины и «шуровать» горящее топливо, а также подкидывать в топку новые дрова или торфяные брикеты.
В тридцатые годы СССР активно готовился к войне и покорению мира, готовясь также к возможным перебоям с дизельным/бензиновым топливом – и наличие газогенераторных автомобилей могло быть оправданным там, где был дефицит бензина. Танк на дровах не поедет (слишком малая мощность), а вот грузовик – вполне, ну а оставшийся бензин лучше отдать танкам.
Фанаты СССР с гордостью рассказывают истории, как в годы войны советские машины на дровах массово использовались «в условиях нехватки топлива», забывая добавить, что использовались они в основном на Колыме, где никакого фронта не было, а были только концлагеря ГУЛАГа.
Эксплуатация советского автомобиля на дровах была трудным и малоприятным делом. Во-первых, всё автомобильное газогенераторно-дровяное хозяйство весило примерно 200–300 кг, и это без учёта веса дров или другого сухого топлива – всё это намного снижало грузоподъёмность автомобиля.
Во-вторых, очень неудобным был сам процесс эксплуатации. Вот вы топили когда-нибудь камин? За ним надо постоянно следить – подбрасывать дрова, поворачивать их, чтобы лучше горели, следить чтобы дрова были хорошо уложены и был в топке нормальный приток воздуха. Примерно то же самое делал и водитель газогенераторного авто – нужно было часто останавливаться и проделывать все вышеуказанные процедуры. Кстати, сам запуск генератора перед стартом поездки занимал не менее 15 минут.
В-третьих, двигатель бы чрезвычайно маломощным, а сама система была подвержена постоянным поломкам. Нередкой была ситуация, когда водитель просто стоял на обочине и пытался понять, что произошло с чадящим и дымящим чудищем и почему оно никак не хочет ехать дальше.
В-четвёртых, пробег. На одной (полной) заправке бака газогенератора твёрдым топливом (дровами, торфом, брикетами прессованной соломы и так далее) автомобиль ехал всего около 60–80 километров, после чего требовал полной загрузки топлива. На практике же рекомендовалось подкидывать дрова с опустошением бака примерно наполовину. То есть каждые 25–30 км дороги водитель вынужден был останавливаться и «лезть в печку».
Для эксплуатации советских машин на дровах в СССР издавались целые книги, в которых подробно описывался весь процесс. Так, например, в 1956 году была издана книга под названием «Пособие для шофёра третьего класса», целый раздел в которой посвящён дровяным автомобилям.
Последний новенький газогенераторный советский автомобиль сошёл с конвейера в 1956 году, ну а ездил он ещё как минимум 10 лет – то есть последние газогенераторные автомобили доживали свой век где-то в шестидесятые-семидесятые годы. А за рубежом в те годы уже выпускались прекрасные автомобили.
По воспоминаниям очевидцев, в семидесятые можно было нередко увидеть коптящий «газген» в советской глубинке, и не удивительно, если ещё и в восьмидесятые годы они успешно использовались. Ну а там и СССР кончился.
Как известно, 11 октября 1920 года вышел декрет Совнаркома об отмене некоторых денежных расчётов. В ноябре его дополнил декрет об упрощении денежного обращения, а в декабре Совнарком распорядился бесплатно отпускать населению продовольственные продукты и товары широкого потребления.
В советской России наступил коммунизм, но весьма своеобразный, получивший название военного. Государство сделало ставку на свёртывание товарно-денежных отношений, запрет частной торговли и уравнивание в распределении материальных благ. В планы большевиков входил полный отказ от традиционной финансовой системы и от денег вообще, поскольку они «ослепляют невежественные массы». Новая власть решила перевести всё на натуральный обмен и ввести систему распределения.
Уже в октябре 1920‑го была отменена плата за жильё, транспорт и прочие услуги. Видный большевик Юрий Ларин писал, что отмирание денег возрастает по мере возрастания организованности советского хозяйства, а сами деньги утратят своё значение и останутся только тем, чем они являются на самом деле: цветной бумагой. «Наши дети, – говорил он, – выросши, будут знакомы с деньгами уже только по воспоминаниям, а наши внуки узнают о них только по цветным картинкам в учебниках истории». К возможно более быстрому уничтожению денег призывал и Ленин.
Однако теория экспериментаторов не подтвердилась. Без денег экономика существовать не могла. Первые советские рубли были выпущены в 1922 году. Денежные знаки до десяти рублей именовались Государственными казначейскими билетами, а банкноты более высокого номинала – Билетами Государственного Банка СССР. Вскоре
– уже в 1924 году – декретом СНК СССР эмиссия совзнаков была прекращена и вместо них выпущены новые банкноты. Они обменивались по курсу 1 рубль за 5 000 000 рублей образца двухлетней давности или 50 000 000 000 рублей ещё более ранних выпусков. В следующем году была допечатана новая партия банкнот с новым дизайном, в том числе Государственный Казначейский билет на один рубль золотом. Очередное обновление дизайна купюр произошло в 1934 году. Эти банкноты были допечатаны тремя годами позже и, хотя дата отпечатки на них осталась прежней – 1934 год, – с банкнот пропала подпись комиссара финансов. Выпущенные в 1938 году подверглись очередному редизайну, при этом купюры достоинством в один, три и пять рублей не обладали водяным знаком, а на банкнотах большего достоинства номинал указывался в червонцах.
С 19 июля 1937 года Госбанк СССР «привязал» рубль к доллару. Курс американской валюты был установлен на уровне 5,30 рубля за доллар. Этот курс продержался неизменным (с некоторыми нюансами) до 1 марта 1950 года. Далее, в условиях разгоравшейся «холодной войны», в первую очередь с Америкой, Сталин потребовал отказаться от привязки рубля к американскому доллару. Кроме того, для блока социалистических государств нужно было создать финансовую систему, альтернативную капиталистическому миру. Доллар был привязан к золоту, а валюты прочих участников соглашения были привязаны к доллару. Постановление Совета Министров СССР от 28 февраля 1950 года перевело рубль на золотую основу. Золотое содержание рубля составляло 0,222168 грамма золота. С 1 марта 1950 года была установлена покупная цена Госбанка СССР на золото в 4,45 рубля за грамм. Этот курс продержался неизменным до 1960 года. При этом курс доллара был установлен на уровне 4 рублей за доллар.
В 1947 году власти провели ещё одну денежную реформу, новые рубли обменивались на старые в соотношении 10:1. Вместе с этим был видоизменён дизайн банкнот – в связи с упразднением Карело-Финской ССР на ленте герба СССР осталось только 15 витков. Одна из самых значимых денежных реформ состоялась через 15 лет – в 1961‑м. Масштаб цен был изменён в десять раз, а выпущенные банкноты в неизменном виде оставались вплоть до 1991 года. Эта реформа значительно облегчила взаиморасчёты, а округление цен в большую сторону принесло бюджету от трёх до четырёх с половиной миллиардов рублей. Вместе с этим меньший формат купюр обусловил уменьшение себестоимости производства этих банкнот. Последнее существенное изменение дизайна советских рублей произошло уже в ходе перестройки – в 1991 году, когда были выпущены купюры номиналом 50 и 100 рублей, позже к ним были допечатаны купюры номиналом в 1, 3, 5, 10, 200, 500 и 1000 рублей. По сравнению с предыдущими советскими деньгами, отсутствовала только купюра в 25 рублей.
Для советских пролетариев до осени 1929 года воскресенье было выходным днём. Это была награда за шесть трудовых будней. Можно было побыть с семьёй, посетить церковь или заняться уборкой, в конце концов. Но в глазах советского правительства во главе с товарищем Сталиным воскресенье представляло собой угрозу для промышленного прогресса.
Станки простаивали, производительность падала до нуля, а люди привыкали к буржуазному комфорту. Это противоречило идеалам революции, и была введена непрерывная рабочая неделя.
29 сентября 1929 года стало последним воскресеньем, которое было выходным. В следующее воскресенье такой коллективной паузы уже не произошло. Указом правительства Советского Союза 80 % рабочих были отправлены к станку. Дома оставались лишь 20 %. Для всего трудового народа началась практика непрерывного рабочего процесса или семидневной рабочей недели. Теперь дни отдыха попадали вразброс в течение недели. Такой график предложил советский экономист и политик Юрий Ларин. Машины никогда не должны простаивать.
«Непрерывка» должна была произвести революцию в представлении о труде, повысить производительность и сделать религиозное поклонение слишком хлопотным. Всё выглядело прекрасно в теории, но на практике проект потерпел неудачу практически по всем пунктам. В него были внесены некоторые изменения. В 1931 году цикл был продлён до шести дней. В конце концов, после 11 лет проб и ошибок проект был свёрнут в июне 1940 года. Революции в сфере труда не получилось.
Что же представляла собой «непрерывка»?
В отличие от обычной семидневной недели, непрерывная неделя начиналась как пятидневный цикл. Каждый его день был отмечен определённым цветом и символом в календаре. Население было разделено на группы, у каждой из которых был свой день для отдыха. Дни недели, такие родные и знакомые, постепенно потеряли всяческий смысл.
Вместо названия каждый из пяти новых дней был отмечен символическим, политически уместным предметом. Это были: пшеничный сноп, красная звезда, серп и молот, книга и будёновка. Календари тех времён показывают дни, отмеченные разноцветными кружочками. Эти кружочки обозначали, когда нужно работать, когда отдыхать. Это был график посменной работы самого грандиозного масштаба в истории человечества.
С самого начала всё пошло не так, как хотелось. Рабочий класс был страшно не доволен нововведением. Пролетарии писали письма в газеты, в различные партийные организации о том, что такой график сводит на нет весь смысл выходного дня. Люди возмущались: «Что нам делать дома, если наши жёны на фабрике, дети в школе, друзья и родственники на работе? Это не выходной, если нужно просидеть целый день одному дома». Рабочие не просто не могли отдохнуть нормально, невозможно было даже просто собраться вместе с семьёй.
Всё это уничтожало любые экономические бонусы такой системы. Недовольный человек не может полноценно, с полной отдачей, трудиться. Стала страдать и социальная сфера, культура. Невозможность собраться всей семьёй, усложнение практики религиозного поклонения. Праздники полностью исчезли из жизни трудящихся. Вместо этого родилась иллюзия интенсивной работы. Существуют сведения о семейных проблемах, вызванных непрерывной неделей. В те годы стало обычным делом отмечать своих друзей и знакомых в адресных книгах определённым цветом в зависимости от того, когда у них выходной.
Социолог и автор книги «Семидневный круг: История и значение недели», Эвиатар Зерубавель, утверждает, что календарная реформа может быть связана с традиционным марксистским отвращением к семье. Делать семейные ячейки общества менее интегрированными и сплочёнными, возможно, даже входило в сознательную часть повестки дня. В отсутствие технологий, говорит Зерубавель, временная симметрия – это клей, который скрепляет общество. Здесь же не было общего досуга. Без него советской державе было легче разделять и властвовать.
Более вероятно, что «непрерывка» пыталась атаковать другую сферу жизни советских трудящихся. Религиозную. Если бы Советское правительство действительно было озабочено только экономическими потерями, было бы достаточно просто ввести семидневку. При введённом же экспериментальном графике выходных дней в году выходило больше, чем раньше. Может, целью этой атаки было воскресенье, как традиционный день для похода в церковь?
В конце концов жалобы рабочих были приняты во внимание. Чтобы семьям было легче общаться и проводить время вместе, была проведена очередная реформа. В марте 1930 года правительство издало постановление об установлении общих выходных для членов одной семьи.
Теория утверждала, что непрерывная неделя сделает религиозное поклонение практически невозможным. Без пятницы, субботы или воскресенья и мусульмане, и евреи, и христиане не могли посещать служения. Это считалось выигрышным результатом двухлетней кампании советского правительства против религии.
Поэтому нововведения, которые могли сломить влияние религии на умы людей, были встречены с энтузиазмом. На первый взгляд может показаться нелепым, что создание подобных неудобств может искоренить в людях веру в Бога. Но партийным функционерам казалось, что это возможно. Тем более никто никогда до этого не пробовал ничего подобного поэтому никто и не знал, как это работает. Затея провалилась, как и всё остальное. Никакие ограничения не смогли повлиять на веру людей. Хотя многие и перестали ходить в церковь по воскресеньям, но полностью искоренить религию не удалось.
Кроме всего прочего, за пределами больших городов целые группы населения остались за пределами действия календарной реформы. Непрерывная неделя их практически не коснулась. В сельских районах колхозники занимались посадкой и сбором урожая, уходом за скотиной, а это никак не поддаётся влиянию дней недели. Вдали от бюрократических городских центров страны аграрная жизнь продолжалась почти так же, как и раньше. Правда многие колхозы и совхозы взяли за правило отменять как новые светские государственные праздники, так и традиционные дни богослужений. Чиновники жаловались, что крестьяне всё ещё находятся под влиянием традиционных привычек.
Трудно точно определить все последствия непрерывной недели для общества. В конце концов, это была лишь часть огромного культурного и политического переворота, вызванного советской индустриализацией. Реформа увеличила пропасть между городом и селом. Ведь жизнь в деревнях протекала совершенно в другом ритме и подчинялась другим законам. Примерно в это время для контроля миграции сельского населения были введены внутренние паспорта. Крестьяне старались вырваться из ужасных условий и переехать в город. Нечто подобное существует и сегодня в Москве, чтобы ограничить количество людей, желающих поселиться в столице.
Одиннадцать лет жизни в Советском Союзе прошли под знаком хаоса. Календари того периода были запутанными и странными. Общественный транспорт работал по пятидневному циклу, многие предприятия – по шесть дней, упрямое сельское население – традиционно семь дней в неделю. В конце концов, реформа окончательно провалилась. Производительность труда упала до исторического минимума. Непрерывное использование приводило к быстрому изнашиванию рабочих машин. Уже в 1931 году стало ясно, что так называемые совместные обязанности часто означают то, что никто не берёт на себя ответственность за свои рабочие задачи. Понятно, насколько это пагубно сказывается на работе в целом.
26 июня 1940 года, в среду, Указ Президиума Верховного Совета объявил о восстановлении семидневного цикла. Воскресенье снова стало выходным днём. Отношение к рабочему процессу, рабочая, так сказать, идеология, осталась неизменной. Для обычных рабочих увольнение с работы, прогул или опоздание более чем на 20 минут каралось уголовной ответственностью. Наказанием мог стать вполне реальный тюремный срок.
И в то же время были энтузиасты, готовые трудиться самоотверженно…
В поздней, скупой на слова, как и подобает казённым бумагам, автобиографии для отдела кадров о своей жизни он писал: «Я, Стаханов Алексей, родился в 1905 году 21 декабря в деревне Луговое Орловской области в семье крестьянина. В 1913 году пошёл учиться в сельскую школу, где проучился три года. В 1917 году я нанялся к кулаку на мельницу, где проработал до 1927 года. В 1927 году выехал в Донбасс на шахту «Центральное-Ирмино», где работал коногоном до 1929 года. В 1929 году перешёл работать крепильщиком, в качестве которого работал до 1931 года. В 1931 году перешёл работать забойщиком… На этой же шахте 30 августа 1935 года мною был установлен рекорд по добыче угля. За смену я вырубил 102 тонны угля…»
– Знаете, столько лет прошло, а меня всё спрашивают, почему Стаханова выбрали, почему мы вообще решились на рекорд, – рассказывал в 1985 году Константин Григорьевич Петров, занимавший полувеком ранее должность парторга ЦК ВКП (б) на шахте «Центральная-Ирмино». – На первый вопрос я ещё тогда для себя ответил. Работать Алексей любил и умел лучше многих. И парень был видный, сильный. Не для печати добавлю. Я думал про себя: кулаки у него тяжёлые, соберутся побить за то, что высовывается промеж прочих, так отобьётся.
– А что – бывало? – поинтересовался корреспондент.
– А то нет?! – хмыкнул Петров. – Между нами добавлю: я его часто вспоминал, когда Высоцкий в моду вошёл. У него же песня есть про шахтёров. Помните, наверное: «А он стахановец, гагановец, загладовец, и надо же, чтоб завалило именно его».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



