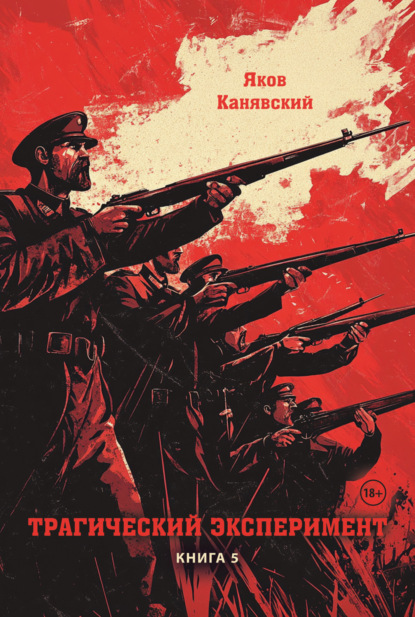
Полная версия:
Трагический эксперимент. Книга 5
Большевики целенаправленно истребили всех Романовых, находившихся на территории страны, чтобы не было ни малейшего напоминания об их присутствии и ни малейшего шанса на их возвращение во власть. Эти действия схожи с тем, что происходило во время Великой французской революции. Советская революция вообще была такой же лживой, как и французская: те, кто пришёл в итоге к власти, предали свои идеалы, и произошло это очень быстро.
Не все знают, как жили после исторической трагедии исполнители казни.
Вскоре после казни Екатеринбург заняли белые. Юровскому пришлось спешно уехать в Москву, где его тут же пристроили в центральный аппарат Чрезвычайной комиссии. Но затем Яков вернулся в Екатеринбург: город снова отвоевали красные, там нужен был надёжный человек, чтобы руководить уже Уральской ЧК. Любопытно, что Юровскому с семьёй выделили служебное жильё в особняке, который стоял практически напротив Ипатьевского дома. Терзали ли главного чекиста Урала угрызения совести, когда из своего окна он смотрел на бывший «режимный объект»? Это неизвестно.
В любом случае если Юровский и переживал, то недолго. В 1921 году его опять вызвали в Москву и предложили работу в Гохране, куда к тому моменту были сданы все конфискованные у «классовых врагов» драгоценности. Их Юровскому поручили привести в «ликвидное состояние». Почему именно ему? Во-первых, он прекрасно разбирался в драгоценностях, так как до революции владел собственной ювелирной мастерской. Во-вторых, как отмечалось, был «до щепетильности честен с государственным имуществом». Например, после расстрела царской семьи обнаружилось, что в лифы царёвен зашиты бриллианты и другие ценные камни общим весом в полпуда, а на императрице Александре Фёдоровне под платьем был намотан огромный кусок золотой проволоки. Все найденные на трупах сокровища Юровский сдал в госказну. А мог бы присвоить.
В общем, дальше его так и продвигали именно по экономической линии. После Гохрана цареубийца стал председателем торгового отдела в валютном управлении Наркомата. В 1923–1928 годах он занимал должность замдиректора завода «Красный богатырь» (предприятие выпускало резиновую и текстильную обувь – формовые сапожки, галоши, боты). А на закате карьеры Юровский сидел в уютном кресле директора Политехнического музея. На пенсию он ушёл в 1933 году. И в целом жизнь его была сытой и спокойной. Но благодать закончилась в 1935-м, когда за симпатии к троцкистам арестовали его дочь Римму – кстати, одну из основательниц комсомола. Это подкосило Юровского. На нервной почве он стал сильно болеть. Таким чувствительным оказался! И в 1938 году умер в кремлёвской больнице от прободной язвы желудка.
Римму освободили только в 1946-м. А в 1952-м посадили её родного брата Александра, который был военно-морским инженером, участником обороны Ленинграда, героем Великой Отечественной и контр-адмиралом. Правда, через год в связи со смертью Иосифа Сталина он вышел на свободу. Но всё-таки… Не попал под жернова только третий отпрыск Юровского – Евгений. Он тоже служил во флоте, тоже прошёл войну (был политруком 205-го гвардейского миномётного полка моряков), дослужился до подполковника. Умер в 1977 году. Больше ничего о нём неизвестно. Зато известно, что ни от одного из троих детей у Юровского не осталось внуков! Они все погибли. Девочки умирали в младенчестве. Мальчики успевали подрасти, но потом тоже погибали. Один внук сгорел в пожаре, другой отравился, третий разбился, упав с крыши сарая, ещё один совершил самоубийство. Любимец Юровского – сын Риммы Анатолий – был найден мёртвым в своём автомобиле… Многие считают, что это проклятие такое – за то, что Юровский убил царскую семью, его собственная семья вымерла под корень. Наказание за преступление Якова понесли его потомки.
Впрочем, у Юровского было девять братьев и сестёр. Вот от них род продолжился. Но уже под другой фамилией. Дело в том, что родственники цареубийцы – по крайней мере, бóльшая часть из них – ещё в советское время решили изменить окончание своей фамилии, чтобы не ассоциироваться с Яковом. Были Юровские, а стали – Юровских! Они осуждали родственника и не желали с ним иметь ничего общего.
Сотрудник областного ЧК и непосредственный помощник Юровского Григорий Никулин, как считается, до последнего не знал о готовящемся расстреле. Накануне казни он вырезал из дерева дудочку для царевича Алексея и научил его играть на ней «Во саду ли, в огороде». Он вроде как вообще был добрым человеком. Например, как-то Никулину поручили ликвидировать князя Долгорукова, который в то время тоже был выслан на Урал. Чекист выпустил князя из тюрьмы. Распахнул ворота и сказал: «Можно пройти напрямик через поле. Я помогу вам донести вещи». Князь шагнул вперёд, а Никулин спокойно выстрелил ему в спину.
Своё участие в убийстве царской семьи он всегда тщательно скрывал. Сразу после трагических событий Никулин вслед за своим начальником Юровским уехал из Екатеринбурга в Москву. В 1919-м работал в административном отделе Московского Совета: сначала отвечал за арестные дома Москвы, а затем стал начальником знаменитого сегодня МУРа. И на этой должности проявил себя как нельзя лучше: при нём втрое сократилось количество разбоев, в девять раз снизилось число грабежей, а число убийств уменьшилось на треть.
В 1935 году Никулина поставили руководить строительством московской Восточной водопроводной станции. Там он и трудился до 1956 года – до самой пенсии. Надо сказать, что жил Никулин припеваючи. По свидетельствам современников, его жена хвасталась большим домом, в котором отдельная комната была даже у собаки.
Умер Григорий Никулин в 1965-м. И незадолго до кончины вдруг изменил собственному правилу – не афишировать своё участие в расстреле царской семьи. Он дал интервью на Всесоюзном радио, раскрыв все подробности казни. Видимо, пытался и покаяться, и оправдаться. Заявил, что убийство Романовых было исторической необходимостью. А действия расстрельной команды назвал гуманными. Ведь приговорённые к смерти узнали о своей участи только в последние минуты. Поэтому не страдали долго от страха и отчаяния.
А после смерти в сентябре 1965 года Григория Никулина, заслуженного коммуниста, похоронили на самом престижном кладбище – Новодевичьем.
Много лет спустя рядом с могилой Никулина появилась ещё одна, в которой погребён первый президент России Борис Ельцин, – кстати сказать, имеющий косвенное отношение к событиям зловещей июльской ночи в Екатеринбурге: именно Борис Николаевич, будучи руководителем Свердловской области в 1970-е, дал «добро» на снос «нежелательного памятника истории» – Дома Ипатьева.
В отличие от Никулина, военком Пётр Ермаков не только не скрывал своего участия в убийстве Николая II и его близких, но даже выступал с лекциями на эту тему. Он подробно рассказывал, как выстрелил в царицу – «попал ей прямо в рот, через две секунды она была мертва», как убил доктора Боткина, потом царского повара… Он был вообще опытным убийцей. В 1906-м вступил в РСДРП и уже через год не моргнув глазом зарезал своего товарища по партии, который был заподозрен в сотрудничестве с жандармами. После чего стал предводителем боевиков, которые разбоями и грабежами добывали деньги для партии, зачастую оставляя после себя трупы.
Поэтому убийство царской семьи не было для Ермакова чем-то из ряда вон.
После расстрела Романовых Ермакову пытались найти место и должность, которые бы соответствовали его роли в историческом событии. Но продвинуть лихого Петра по карьерной лестнице оказалось очень сложно по причине его абсолютной безграмотности и хронического алкоголизма. Сначала Ермаков работал простым сотрудником органов в Омске, затем – в Челябинске и Екатеринбурге. В 1927 году стал инспектором уральских тюрем. И так рьяно инспектировал вверенные ему учреждения, что получил звание ударника труда, грамоту и наградной браунинг.
В 1935 году он стал членом научного общества при Свердловском областном музее революции. Поэтому, как уже упоминалось, разъезжал с лекциями о расстреле царской семьи. Но постепенно спился. Ермакову стало не до лекций. Покушать он заходил в столовую-распределитель для ветеранов революции. А выпивать наведывался в пивные. Приходил и приказывал буфетчику: «Наливай!» Когда с него требовали плату, он возмущался: «Я один всю царскую семью убил! А ты мне пива налить не хочешь?»
Также Ермакова не раз видели на паперти единственной в Свердловске действующей церкви: цареубийца жалостливым голосом просил милостыню. Умер он в 1952 году от рака в больнице, которая располагалась по соседству с Ипатьевским домом.
Павел Медведев был начальником конвоя, охранявшего Романовых. Во время расстрела он, по свидетельству коллег, повёл себя «странно», хотя был «опытным большевиком» – «Упал, потом стал на четвереньках выползать из комнаты. Когда товарищи спросили, что с ним (не ранен ли), он грязно выругался, и его стало тошнить…»
После казни Медведев несколько замешкался: оставался в Екатеринбурге, когда белые уже хозяйничали на окраинах города. Бежал, но был пойман одним из отрядов Колчака. Его допросили с пристрастием. От убийства царя Павел яростно открещивался. Тем не менее колчаковцы отправили его за решётку – дожидаться следствия. Но его Медведев так и не дождался: заболел свирепствовавшим в то время сыпным тифом и умер прямо в камере.
Ещё один участник расстрела, сотрудник областной ЧК Михаил Медведев (Кудрин), прожил очень долгую и успешную жизнь. Именно он начал стрелять конкретно в Николая II, не дожидаясь, пока Юровский повторит приговор (с первого раза обречённые на смерть не поняли, что именно с ними собираются сделать). Из револьвера Медведева в самодержца было выпущено сразу пять пуль. Примеру нетерпеливого чекиста последовали и все остальные, буквально изрешетив тело уже мёртвого царя.
После «спецоперации» Медведев стал членом коллегии УралоблЧК. А в 1938 году был назначен помощником начальника 1-го отделения отдела Особоуполномоченного в НКВД СССР и на этой должности дослужился до звания полковника. При Хрущёве ему была назначена большая персональная пенсия. Медведев-Кудрин был вхож в высшие круги власти, поэтому жил безбедно. И похоронен был на престижном Новодевичьем кладбище с воинскими почестями. Самое ценное, что у него было, он завещал передать своему благодетелю – Никите Хрущёву. Сын Медведева-Кудрина написал руководителю страны письмо:
«Умирая, папа просил поздравить Вас 17 апреля 1964 г., в день Вашего 70-летия, пожелать доброго здоровья и лично передать Вам от его имени в подарок историческую реликвию нашей семьи – пистолет системы „Браунинг“ № 389965, из которого отец в ночь на 17 июля 1918 года расстреливал в Екатеринбурге последнего русского царя Николая Второго (гражданина РомановаН.А.) и его семью».
Кроме браунинга Медведев-Кудрин поручил сыну вручить главе государства рукопись мемуаров о расстреле царской семьи – «Сквозь вихри враждебные». Но воспоминания убийцы не были опубликованы.
К слову, сын Медведева-Кудрина Михаил Михайлович стал учёным-историком. В 1960-х работал в исторической редакции издательства «Наука». Уже после смерти отца он нашёл одного из цареубийц – Григория Никулина и человека, который сжигал трупы, – Исая Родзинского. Медведев-младший под запись задавал им очень тяжёлые вопросы. Например, зачем убивали детей, слуг и даже расправились потом с комнатными собаками – домашними питомцами Романовых? Для чего понадобилось уничтожать останки убитых? Эти записи были сразу же направлены в секретный партийный архив…
Останки царской семьи были официально найдены лишь в 1991 году – тогда было обнаружено девять тел, зарытых на Поросёнковом логу. 5 июля 1991 года начался новый отсчёт времени в установлении истины о гибели царской семьи и их приближённых. После согласования с Ельциным Свердловский облисполкомом выделил деньги на необходимые работы по изъятию останков и созданию соответствующей группы для проведения раскопок.
С 11 по 13 июля 1991 года захоронение в Поросёнковом логу на старой Коптяковской дороге было вскрыто, царские останки изъяты и доставлены в Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы для описания и идентификации.
Событие тут же превратилось в мировую сенсацию.
В 1993 году Борис Ельцин назначает правительственную комиссию по идентификации останков царской семьи, в которую вошли наряду с учёными и историками представители российской интеллигенции и Русской православной церкви. Возглавил комиссию Борис Немцов.
Официально правительственная комиссия завершила свою работу в январе 1998 года. После многочисленных генетических экспертиз в России и за рубежом комиссия пришла к выводу, что останки, найденные Гелием Рябовым и Александром Авдониным под Екатеринбургом, принадлежат последним Романовым. Тогда же было принято решение об их захоронении в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В январе 1998 года президент позвонил патриарху Алексию II и попросил принять членов правительственной комиссии. Эта встреча состоялась 28 января в резиденции патриарха в Чистом переулке. К патриарху прибыли четверо: председатель комиссии вице-премьер правительства Борис Немцов, его советник Виктор Аксючиц, историк Александр Шубин и старший советник юстиции, прокурор-криминалист Генеральной прокуратуры Владимир Соловьёв. Он был единственным из гостей патриарха, кто не входил в состав правительственной комиссии, желая сохранить полную независимость в выводах. Основная тяжесть расспросов легла на плечи Соловьёва – он оказался наиболее подготовленным по всем вопросам. Разговор длился около двух часов. Наконец патриарх прервал вопросы и сказал, положив руку на записку Генеральной прокуратуры: «Достаточно. Вы меня убедили. Это на самом деле императорская семья. С этим вопросом все ясно. Остаётся решить, когда и где необходимо произвести захоронение». Патриарх согласился с тем, чтобы церемония состоялась в 80-ю годовщину расстрела царской семьи, то есть 17 июля 1998 года.
Накануне, 16 июля, Борис Ельцин обратился по телевидению к россиянам:
«Долго раздумывая, разговаривая с гражданами России, историками и работниками культуры, я пришёл к выводу, что мне надо поехать в Санкт-Петербург на захоронение останков Николая II и его семьи. Я считаю это покаянием нашего поколения перед ними. 80 лет эту правду скрывали. И надо завтра эту правду сказать, принять участие. Это будет по-человечески справедливо!»
17 июля 1998 года состоялось захоронение императорской семьи в Петропавловском соборе в Санкт-Петербурге.
Спустя ещё девять лет были обнаружены недостающие два тела – сильно обгоревшие и изуродованные останки, предположительно принадлежавшие цесаревичу Алексею и великой княжне Марии.
Генпрокуратура РФ совместно с профильными центрами Великобритании и США провела множество экспертиз, включая молекулярно-генетическую. С её помощью были расшифрованы и сопоставлены ДНК, выделенные из найденных останков, и образцы брата Николая II Георгия Александровича, а также племянника – сына сестры Ольги Тихона Николаевича Куликовского-Романова.
Экспертиза также сопоставила результаты с кровью на рубашке царя, хранящейся в Эрмитаже. Все исследователи сошлись во мнении, что найденные останки действительно принадлежат семье Романовых, а также их слугам.
После 2015 года исследование останков (которые ради этого пришлось эксгумировать) продолжается уже с участием комиссии, сформированной патриархией. Согласно последним выводам экспертов, обнародованным 16 июля 2018 года, комплексные молекулярно-генетические экспертизы «подтвердили принадлежность обнаруженных останков бывшему императору Николаю II, членам его семьи и лицам из их окружения».
Адвокат императорского дома Герман Лукьянов заявил РИА «Новости», что церковная комиссия примет к сведению итоги экспертизы Следственного комитета, но окончательное решение будет оглашено на Архиерейском соборе.
В 2018 году вновь были подтверждены результаты генетических экспертиз. Историки доказали подлинность останков великой княжны Марии и цесаревича Алексея, найденных позже остальных.
* * *Приятели сделали очередной перерыв в поисках.
– А ведь, оказывается, у великой княжны Ольги Николаевны был шанс ещё за несколько лет до роковой ночи с 16 на 17 июля 1918 года покинуть отца и мать, обзаведясь собственной семьёй. В таком случае все тяжёлые испытания, выпавшие на долю императора и его близких после отречения от престола и закончившиеся их трагической гибелью, обошли бы молодую женщину стороной, – заметил Семён. – Об этом недавно писали.
В 1914 году, до начала Первой мировой войны, наметился было междинастический проект. Родители приглядели для Ольги, которой недавно исполнилось восемнадцать, подходящего по рангу жениха – Кароля (Карла), старшего сына румынского кронпринца (и будущего короля) Фердинанда из рода Гогенцоллернов-Зигмарингенов и кронпринцессы Марии Эдинбургской.
Российский министр иностранных дел Сергей Сазонов писал: «По многим причинам этот брак мог быть признан Русским Двором весьма подходящим и по политическим соображениям желательным, чего я не скрывал от Государя и Императрицы. Их Величества, не возражая ничего против моих доводов, настаивали только на том, чтобы брак великой княжны… состоялся только по более близком знакомстве молодых людей между собою и при непременном условии свободного согласия на него Их дочери».
В Румынии к подобному брачному варианту отнеслись, конечно, тоже с большой заинтересованностью: ведь по своему статусу дочери российского императора были едва ли не самыми завидными невестами в Европе.
Впрочем, для румынской стороны существовало очень серьёзное «но». Позднее в своих мемуарах Мария Эдинбургская призналась, что, когда зашла речь о вероятности брака её старшего сына и великой княжны Ольги Николаевны, это её не только обрадовало, но и испугало. Причиной тому – страшная наследственная болезнь.
«Когда впервые появились разговоры о возможном браке Кароля и Ольги, я была больше против, чем за, так как я очень боялась этой ужасной болезни – гемофилии, которая передаётся от матери к сыновьям. Я знала, что бедная Аликс (так называли близкие императрицу Александру Фёдоровну) передала её своему наследнику, и мне было страшно ставить свою семью перед подобной угрозой. Если бы не это, я была бы рада принять любую из дочерей Николая II в нашей семье, потому что это было очень лестное предложение от Российской стороны. Когда нас с сыном пригласили в Царское Село, мы посчитали неприличным отказаться от приглашения, к тому же я давно хотела поехать в Россию».
Невзирая на такую скрытую угрозу, родители потенциальных жениха и невесты всё-таки предприняли первые шаги к осуществлению свадебных планов. Состоялось несколько визитов на высшем уровне, в ходе которых молодые могли бы получше узнать друг друга.
Весной 1914 года по приглашению Николая II Фердинанд с семейством прибыл в Петербург. Здесь их встретили вполне по-родственному. Ничего удивительного: ведь Мария Эдинбургская была внучкой российского императора Александра II (её мать – дочь этого государя, великая княжна Мария Александровна).
Румынскому кронпринцу с супругой понравились царевны. Но вот сами представители молодого поколения не слишком активно налаживали контакты между собой. Кароль явно чурался общества великих княжон, а те в свою очередь не проявляли к этому гостю особой заинтересованности.
Румынская кронпринцесса вспоминала: «Ни Кароль, ни Ольга не проявляли никакого желания познакомиться ближе. Общественность жаждала видеть одну из княжон невестой Кароля, однако во дворце никто об этом не говорил. Я чувствовала, что надо обсудить этот вопрос с Аликс. Обсудив с мужем план брака, мы решили, что будет грубо, если мы уедем, не подняв этой темы, ведь предложение должно было исходить от молодого человека. Однажды после обеда я спросила, могу ли я поговорить с Аликс наедине. Мы ушли в её будуар и там я откровенно рассказала о том, что нахожусь в затруднительном положении и не понимаю, что делать. Мы договорились о том, что не можем решать от имени наших детей, что они должны все решить сами. Единственное, что мы могли сделать, – дать им возможность почаще видеться».
А С.Д.Сазонов в своих воспоминаниях приводит такие слова императрицы Александры Фёдоровны, сказанные ему в приватной беседе: «Вы понимаете, как трудны браки в Царствующих Домах… Дело Государя решить, считает ли он тот или иной брак подходящим для своих дочерей или нет, но дальше этого власть родителей не должна идти».
В результате был запланирован следующий этап «операции»: на предстоящее лето наметили новую встречу семьями – кронпринц пригласил российского государя и его близких посетить Румынию.
Этот вояж Николай и Александра со всеми детьми предприняли в июне 1914-го, выкроив для него время в период своего летнего крымского отдыха. Из Ялты плыли на императорской яхте «Штандарт» в сопровождении двух крейсеров и ещё нескольких кораблей Черноморской эскадры.
Загранпоездка получилась очень короткой. 1 июня на румынском берегу, в Констанце, царская семья провела лишь немногим более полусуток. Это время было плотно занято протокольными и развлекательными мероприятиями.
Фрейлина императрицы Софья Буксгевден вспоминала: «После чая все члены королевских семей отправились на смотр румынских войск, причём великая княжна Ольга ехала вместе с кронпринцессой. Молодая великая княжна была в центре внимания, поскольку были большие надежды на её свадьбу с принцем Каролем».
Город тщательно подготовили и украсили к визиту столь важных гостей, а всю программу пребывания семьи русского монарха тщательно продумали, однако это ни на йоту не продвинуло вперёд «матримониальный проект». Судя по всему, он изначально был обречён на неудачу. Подобный вывод можно сделать, прочитав воспоминания одного из придворных, наставника цесаревича Алексея Пьера Жильяра:
«В конце мая месяца при дворе разнёсся слух о предстоящем обручении Великой Княжны Ольги Николаевны с принцем Карлом Румынским. Ей было тогда восемнадцать с половиною лет. Родители с обеих сторон, казалось, доброжелательно относились к этому предположению, которое политическая обстановка делала желательным. Я знал также, что министр иностранных дел Сазонов прилагал все старания, чтобы оно осуществилось, и что окончательное решение должно было быть принято во время предстоявшей вскоре поездки русской императорской семьи в Румынию.
В начале июня (Жильяр вёл отсчёт времени по новому стилю), когда мы были однажды наедине с Ольгой Николаевной, она вдруг сказала мне со свойственной ей прямотой, проникнутой той откровенностью и доверчивостью, которые дозволяли наши отношения, начавшиеся ещё в то время, когда она была маленькой девочкой:
– Скажите мне правду, вы знаете, почему мы едем в Румынию?
Я ответил ей с некоторым смущением:
– Думаю, что это акт вежливости, которую Государь оказывает румынскому королю…
– Да, это, быть может, официальный повод, но настоящая причина… Ах, я понимаю, вы не должны её знать, но я уверена, что все вокруг меня об этом говорят и что вы её знаете.
Когда я наклонил голову в знак согласия, она прибавила:
– Ну так вот! Если я этого не захочу, этого не будет. Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу покидать Россию.
– Но вы будете иметь возможность возвращаться сюда всегда, когда вам это будет угодно.
– Несмотря на всё, я буду чужой в моей стране, а я русская и хочу остаться русской!»
Остальные три великие княжны явно разделяли подобные настроения сестры. Похоже, во время заморского визита барышни решили нарочито явить себя местному высшему обществу не самым выигрышным образом. Как отмечали очевидцы с румынской стороны, царские дочери показались одетыми «слишком просто», а кроме того, они выглядели чересчур загорелыми для представительниц дворцовой элиты.
Как бы то ни было, петербургская ситуация повторилась и в Констанце: принц Кароль не предпринимал активных попыток общения с Ольгой, предпочитая вместо этого оставаться в обществе старших, а девушка демонстративно «не замечала» его.
В итоге тогда, летом 1914-го, затея с междинастическим сватовством кончилась полным фиаско.
Около полуночи с 1 на 2 июня «Штандарт» отчалил от румынского берега и взял курс на Одессу.
Из воспоминаний П.Жильяра: «На следующий день утром я узнал, что предположение о сватовстве было оставлено или по крайней мере отложено на неопределённое время. Ольга Николаевна настояла на своём».
Другой участник тех событий сформулировал ситуацию ещё более категорично: «Было досадно слышать истории о браке нашей великой княжны с сыном наследного принца, хотя вопрос был определённо решён. И ответ был отрицательным».
Впрочем, на официальном уровне вроде бы точку в данном брачном проекте ещё не поставили. Румынские Гогенцоллерны и российские Романовы договорились о новых семейных встречах, следующую из которых они наметили на осень 1914 года.



