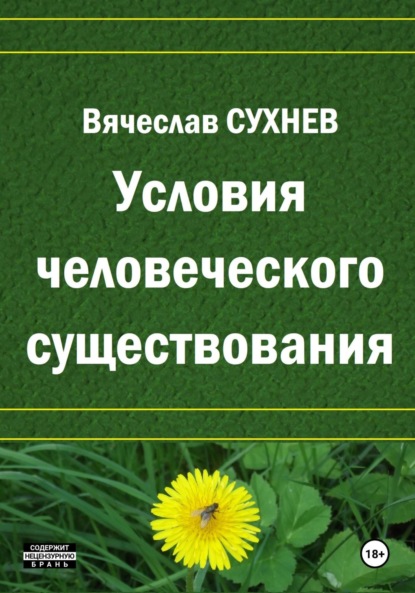
Полная версия:
Условия человеческого существования
– Хреново наше дело, – резюмировал Паша. – Тут ведь склад был. Шкуры, кишки, рога и копыта. Крысам, понимаешь, раздолье. А закрыли склад – они ушли. Но ходы остались. Понял? Сразу людей унюхали. Не будет нам житья. Вот увидишь, скоро в каждой комнате начнут шариться.
– Ну и что делать? – пригорюнился Сергей Михайлович. – Это же моя первая в жизни собственная комната!
– Мозгой надо раскинуть, – задумчиво сказал Паша, терзая рыжую шерсть на груди. – Во дела! У меня, предположим, девушка в гостях, а тут – здрасьте… Ладно. Есть у нас в управлении сторож. Интересный мужик, хоть и мухомор. В смысле злой и ядовитый. Всё на свете знает. Завтра же приведу.
Назавтра Сергей Михайлович ушёл в школу и в суматохе дел позабыл про крысиного царя и его воинство. Возвращался уже затемно. Редкие фонари подобострастно освещали лишь столбы, на которых висели. Поэтому идти по улице было тяжко. Грязь за день подсохла и превратилась из манной каши в крутое тесто. Почти у самого общежития Сергей Михайлович завязил правый сапог и по инерции сделал пару шагов в носке. Отыскав пропажу, не решился пачкать обувь изнутри и пошлёпал дальше, как был…
Первым делом, не заходя к себе, простирнул на кухне носок. Крохотный паренёк с усиками в ниточку колдовал у газовой плиты, помешивая в огромном казане. Он неодобрительно следил за постирушкой учителя, просто спину взглядом прожигал. Сергей Михайлович героически достирал носок, буркнул «извините» и пошёл к себе.
– Эй, дорогой! – закричал вдогонку паренёк с усиками. – Зачем сапог оставлял? Жарыт будем, да?
Так что свою дверь Сергей Михайлович открывал в угнетённом состоянии духа. Бросил носок на батарею под окном, включил свет – и замер в тоске безбрежной. Рюкзак валялся у стены, разодранный. Видать, крысы учуяли в нем дух вчерашнего сала. Рядом с рюкзаком он заметил кучку продолговатых катышков – гости, разочаровавшись, отомстили, как смогли.
– Просто свиньи! – удивился Сергей Михайлович.
Пихнул ногой рюкзак, и открылась за ним дыра в стене. Свежая, круглая, как по циркулю вычерченная. Скрипнула дверь, и сосед Паша сказал:
– Привет, Серёга! Слышу – пришел. А у меня новость – дыра появилась.
– У меня тоже новость, – показал учитель.
– Совсем, суки, обнаглели, – с угрозой сказал Паша. – Пойду за Миронычем. А ты пока бутылку организуй. Мироныч, наверное, захочет.
– Есть бутылка, – сказал Сергей Михайлович. – Мне тоже выпить захотелось. Просто тоска берёт от этих тварей.
– Ладно, – прикинул Паша. – Забегу в магазин. Что же мне, на вас смотреть и слюни глотать, как собаке Павлова?
Не мог учитель оставаться в своей изгаженной комнате. Оделся, прихватил сигареты и подался на крыльцо. Почти час сидел, курил одну за одной, занимался в уме математикой. Не высшей, правда, а так – на каждый день. Умножал да складывал. И получалось у него почти тысяча дней. Вот во что ему обойдётся жизнь в Амельяновске. Даже если по месяцам считать, всё равно много – больше тридцати. Мгла лежала вокруг, в пять часов вечера. Едва-едва продирались сквозь тьму редкие огоньки Амельяновска. И никакой собаке, что характерно, не был нужен здесь Сергей Михайлович.
В сырой и вязкой темноте, наконец, раздалось чавканье грязи и приглушённый говор.
– Вот, привел профессора, – сказал Паша.
Мироныч разделся у Сергея Михайловича и оказался невысоким щуплым старичком с нержавеющей улыбкой и аккуратной седой бородкой. Одет он был в ватные штаны и затерханную меховую безрукавку размера на три больше, чем нужно. А при себе имел обычный вещмешок, в котором что-то позвякивало. Старичок потёр сухие желтые руки, как доктор у постели больного, и просипел:
– Извольте показать…
Перед дырой Мироныч посидел на корточках, потрогал спичкой крысиное дерьмо, побарабанил пальцами по коленке:
– Так, ясно… Подайте сидор, пожалуйста.
Из мешка Мироныч достал обычный капкан на грызунов и тщательно обнюхал железную снасть. Сергей Михайлович и Паша с любопытством наблюдали эти манипуляции.
– Замечательно… Капканчик у меня в постном масле выварен – чтобы отбить дух металла. Крыса, доложу вам, ребята, весьма тонко реагирует на железо. Теперь бы мясного чего изобразить.
– Сала можно? – спросил учитель.
– Всенепременно.
Сергей Михайлович изобразил сала – и довольно щедро. Старик покрошил серебристый шматок древним сточенным ножиком. Одним кусочком натер капкан, а другой прицепил к металлическому язычку. Крошками сала выложил дорожку от дыры к капкану.
– Ну, будем ждать клиентов. Есть где перебиться-то?
Отправились они в комнату Паши, уселись на раскладушке, нарезали хлеба с салом. А Мироныч извлёк из недр кацавейки репку лука – крупного, белого, от одного вида которого прошибала светлая слеза.
– … самое умное существо, – договорил Мироныч после второй дозы. – Волки, скажем, индивидуалисты, живут семейно, но поврозь. Они только охотятся в стае. А крыса – животное коллективное. Она, чтоб вы знали, общественным строём живет. И начальники имеются, бугры, короче говоря. И возле каждого такого бугра – шестёрки. За порядком следят, у работяг отнимаю, что повкуснее, и тащат начальнику. Тот только на нарах валяется, жрет да девок портит.
– Ну, Мироныч! – восхищенно сказал Паша. – Здоров ты баки заливать.
– А я верю, – сказал Сергей Михайлович. – Сам видел этого… бугра. Он и командовал. Чуть авоську не порезал, сволочь такая. Может, сам в капкан и попадется?
– Это вряд ли, – убеждённо сказал Мироныч. – У людей тоже в капкан попадают одни шестёрки. А бугры знай, жируют. К тому же у крыс в начальники выбиваются самые умные, а не самые хитрые, как у нас. Крысиный бугор в капкан не пойдёт. Он шестёрку на разведку пошлёт, чтобы отрабатывал хлеб…
Ещё выпили и закусили.
– Сегодня не придут, – сказал Паша. – Может, начальник у них какое мероприятие организовал?
– Политинформацию, – кивнул Сергей Михайлович, и Паша гулко заржал.
– Не сегодня, так завтра придут, – философски заметил старик, с чувством глубокого удовлетворения встречая появление второй бутылки. – Сальца когда-нибудь захочется. Хорошее сало-то, духовитое.
– А если ядом попробовать? – поинтересовался Сергей Михайлович. – Есть же специальные препараты!
– Есть, но не советую, – сказал Мироныч. – Съест она ваш яд и завалится на вечный покой прямо под половицей. И надолго испортит атмосферу. Мой метод надежнее, уверяю. Ну, что ещё могу сообщить о субъекте наших ожиданий? Наверное, вы не знаете, ребята, что крысы подразделяются на расы. Друг с другом не смешиваются, блюдут чистоту крови. Опять же, в отличие от человека, венца божьего творения… Живут крысы родовой общиной, у каждого клана своя территория. Мы имеем дело с так называемым пацюком. Прошу не путать с пацифистом. Будем здоровы!
Он опрокинул стакан в нержавеющий рот, утерся.
– Про пацифизм сугубо… В сороковом году я первый срок получил за антигерманские высказывания. Брякнул по глупости и молодости лет про договор с Риббентропом. Ведь в Испанию бежать налаживался, ещё в школе! А тут – договор с фашистами. Сидел до конца войны за антигерманские настроения.
– Бред какой-то! – удивился Сергей Михайлович. – Сроду о таком не слышал.
– Когда-нибудь всё услышим, – сказал Мироныч. – Но, мнится мне, не скоро. И кое для кого – совсем поздно.
– А где про крыс такие лекции читают? – спросил Паша.
– Второй срок я вместе с одним профессором мотал, с вейсманистом-морганистом, – вздохнул старик. – Большой был специалист по грызунам, думаю, самый первый в Союзе. Как пойдет рассказывать… Он их любил, честное слово! Бывало, обступят зеки, в рот смотрят, когда он про крыс докладывает… Ну-ка, тихо!
Он прислушался, поднял палец и повернулся к Паше:
– А вы сомневались… Голод не тётка, захочешь жрать – в любой капкан полезешь.
В комнате Сергея Михайловича скакала по полу, гремя капканом, здоровенная крыса. Железные челюсти ухватили ее поперёк туловища. Задыхаясь и норовя угрызть металл, крыса поднималась на задние лапы, свирепо мела хвостом и опрокидывалась навзничь, скаля великолепные жёлтые резцы.
– Это же он! – крикнул, приглядевшись, Сергей Михайлович. – Крысиный царь!
– Не может быть, – отмахнулся Мироныч.
– Он! Масть особенная, не спутаешь.
– Н-да, мельчают вожди, – усмехнулся старик. – Ладно, принесите водицы.
Мироныч вытащил из мешка грязную жестянку и мятый котелок. Пока Сергей Михайлович бегал на кухню за водой, старик вытряс в жестянку из небольшого пузырька немного солярки. Затем вылил воду в котелок, достал связанные накрест две палки. Развёл их – получились щипцы. И этими щипцами он схватил визжащего в капкане крысиного начальника и обмакнул монарший зад в солярку.
– Поджигайте, – буднично сказал он Сергею Михайловичу. – У вас рука легкая, я заметил, когда разливали… Поджигайте, не тряситесь, пусть погреется бугорок.
Ломая спички, Сергей Михайлович кое-как добыл огня. Крысиный зад загорелся чадным пламенем, хвост заметался, рассыпая искры, царь возопил в смертной муке.
– А не ходи, куда не просят, – наставительно сказал ему Мироныч и сунул крысу в воду. – Ну, будешь еще народ беспокоить, будешь безобразничать?
Сомлевший крысиный монарх не отвечал. Мироныч пододвинул капкан к норе, наступил ногой на пружину капкана. Царь вывалился на пол.
– Пошли, – сказал Мироныч.
– Куда? – шёпотом спросил Паша и оглянулся.
– Допивать, – ответил старик. – У вас же осталось? Ну, вот… А потом орудия производства подберём, чай, не убегут.
Теперь Паша с Сергеем Михайловичем пили молча. Учитель бездумно принюхивался к пальцам. А Мироныч бубнил сипловатым тенорком:
– … доберётся до своих. Ну, расскажет, как ему на этом свете тот устроили. Убоится народ и покочует в другое место. И даже если подохнет бугор от моего внушения, мифы и предания останутся в памяти потомков. Обходить будут ваш барак, поверьте. Лет несколько будут обходить по дальней дорожке. Потом, может, вернутся. Все зависит от того, насколько впечатляющим окажется рассказ нашего клиента.
– Вы… серьёзно? – вздохнул Сергей Михайлович.
– Серьёзнее некуда, – покивал Мироныч.
– И вернуться могут? – подал голос Паша.
– Могут. Поколения меняются, мифы бледнеют, так сказать, замыливаются. Когда-нибудь пассионарная молодежь сочтёт предание про горелую жопу своего царя недостаточно основательным. И вернётся на родное пепелище, на землю предков. Опыт старших, зафиксированный в легендах и мифах, ещё никого ничему не научил… К сожалению. Хорошо, если найдётся такой же ведун, как я, да напомнит! Тогда миф, обрастая свежими подробностями и подкреплённый новыми обстоятельствами, прочнее закрепляется в сознании. Тогда-то и появляется религия и историческая традиция.
– И наш горелый герой… становится мучеником, – тихо сказал Сергей Михайлович. – Как говорится, положившим голову за други своя…
– Вот именно! – согласился Мироныч.
– Я вас слушаю, мужики, – сказал Паша, – и мозги пухнут. Ладно – учитель! Ему по должности положено темнить. Но ты-то, Мироныч, сам понимаешь, что сейчас сказал?
Старик посмотрел на Пашу отстранённо и медленно, кряхтя, встал:
– Вздрогнули, ребята, в последний раз. А то мне через весь посёлок топать…
Поздно вечером Сергей Михайлович долго проветривал комнату, устроив сквозняк. И руки остервенело мыл несколько раз. Но и после, через много дней, он иногда ощущал где-то рядом запах палёной шерсти.
А крысы ушли. Старик был прав – про опасность соседства агрессивных людей, изобретающих на погибель крысиного племени позорные казни, царь очень убедительно растолковал подданным. И как мученик он находился, вероятно, уже на пути в свой крысиный рай.
ПОЛЕ ЧУДЕС
Классовые корни Буратино
Погода стояла отвратительная – третьи сутки моросил мелкий колючий дождь, перемежаясь со снегом. Тоска… А ведь ещё и октябрь не кончился. Что же в ноябре будет? Окна в классах запотевали, потому что в котельной пробовали новое оборудование, и для школы последние три дня тепла не жалели. Контраст между парниковой школьной атмосферой и холодным душем на улице вызывал простуду, и поэтому в школе взрослые и дети кашляли, перхали и заливались соплями.
Сергей Михайлович собрался после уроков домой и чуть задержался в фойе перед самым выходом, трубя в сырой платок, как рассерженный гусак. За этим малопривлекательным занятием его и отловил директор школы. Бровеносец дождался, пока Сергей Михайлович оттрубит, спрячет платок, и прихватил учителя за локоть:
– Торопитесь куда-то, золотой вы мой?
– Куда сейчас можно торопиться, Николай Сидорович… Домой. Я с утра не жрамши. А сейчас уже почти три часа.
– Не жрамши… Какое ёмкое, эмоциональное речение! Особенно в устах преподавателя русского языка.
– Да, Николай Сидорович, с утра не жрамши! Я в такие моменты могу вспомнить… и другие эмоциональные речения.
Потемкин закудахтал, изображая смех. От него наносило ароматом плохого табака, цветочного одеколона и лука.
– Ладно, приятного аппетита, золотой вы мой. Только хочу сразу предупредить: не вкушайте за борщом ничего, так сказать, предосудительного.
– В смысле?
– Ну, придумаете лечиться от насморка водочкой… Не надо! Нас к четырём часам ждут в администрации. Сам ждёт!
И Бровеносец поднял палец к растрескавшемуся несвежему потолку, на котором копилась парная влага.
Сергей Михайлович хотел обидеться на намёк о самолечении, но передумал. Иначе разговор мог затянуться, а старый портфель, полный тетрадей, книжек и прочего бумажного хлама, и так уже оттягивал руку.
– На кой предмет вызывают, позвольте полюбопытствовать? Если на предмет очередной дыни за упущения во всенародном образовании, могу и для вас прихватить вазелин.
– Вот вы грубый, Сергей Михайлович, я бы сказал, грубо язвительный, к руководству непочтительный… А я вас люблю, не знаю, за что. Не обременяйтесь с вазелином. Зовут нас на предмет музея Алексея Николаевича Толстого.
– И только? – вздохнул Сергей Михайлович. – Ну, конечно… Все улицы заасфальтировали, баню, наконец, открыли и больницу отремонтировали. И электричество подают бесперебойно. Теперь самое время подумать о музее.
Директор оглянулся, погрозил бровями двум мелким припозднившимся шалопаям, которые на рысях брали раздевалку, и подтолкнул Сергея Михайлович к двери:
– А пойдёмте, покурим на крылечке, не пожалейте для старика пяти минут. Контингент-то наш почти весь удалился, мешать и завидовать никто не станет.
На крыльце под бетонным козырьком было свежо – директор поёжился. Пузо грело плохо. Дождь стоял рядом – только руку протянуть. Закурили.
– Кроме Толстого никого больше не вспомнили? – спросил Сергей Михайлович. – Он и так вниманием не обделён. А ведь можно сделать музей Сальвадора Дали – очень хороший был художник, с мировым именем.
– Хороший, наверное, раз о нём все говорят, – кивнул Потемкин. – Однако он не наш, с Россией не связан.
– Не скажите, Николай Сидорович. Жена была русской.
– Дался вам этот… Сальвадор. Вот любопытно: почему вы вспомнили именно про него? Опять с ядовитым подтекстом?
– Сальвадор Дали, чтоб вы знали, – самый русский художник, хоть и классик сюрреализма. Он замечательно воспел нашу действительность. У него в каждой картине – кусочек амельяновского пейзажа. Альбом принесу, сами убедитесь.
– Ладно, – вздохнул Бровеносец. – Я так и знал, что с подтекстом… Вы по-другому в последнее время не разговариваете. В общем, прошу вас подготовиться к беседе в администрации, золотой мой! Забудьте про Дали, помните только про Толстого. Про Алексея, значит, Николаевича. Посмотрите за обедом что-нибудь… Нам надо понять, зачем начальство с таким пылом пробивает идею насчёт музея. Может, какой-то юбилей приближается? Или политика в отношении советской литературы корректируется? В общем, подготовьтесь, чтобы к месту вопросы задавать. Договорились? Э?
За десять минут и домой добежал. Зонтик хорошо прикрывал голову и плечи, а вот брюки промокли чуть ли не до пояса. Придётся сухие доставать – от старого костюма. Лужа во дворе за день подросла, и теперь редкие кирпичи, изображавшие мостки, скрылись под серой водой. Сергей Михайлович привычно скакал с кирпича на кирпич, прижимая к груди портфель, и с сожалением думал, что и сегодня не получится прокопать канаву на улицу. Некогда – высокие заботы зовут.
Светлана Петровна была дома, и борщом её фирменным пахло даже на лестнице. Пока Сергей Михайлович разоболокся в прихожей, сдирая сырые брюки, чуть слюной не изошёл.
– Зачем за стол книжку притащил? – удивилась через минуту Светлана Петровна. – На второе, что ли?
– Надо, мать, надо, – отмахнулся Сергей Михайлович.
Левой рукой он перелистывал чёрно-серый захватанный фолиант литературной энциклопедии, а правой бодро управлялся с ложкой – только звон стоял.
– Вот, нашёл! – обрадовался Сергей Михайлович. – Почитай вслух про Алексея Толстого, пока я поем.
– А застольную не спеть? – обиделась Светлана Петровна.
Сергей Михайлович в нескольких словах объяснил, зачем так срочно понадобилось освежать в памяти биографию красного графа, советского классика.
– Начальство с ума сходит, – резюмировала Светлана Петровна. – Только музея Толстого в Амельяновске и не хватает. Остальное всё есть. Я вот думаю…
– Не думай – вредно, – перебил жену Сергей Михайлович. – Читай! Громко и с выражением. Борщу я сам подолью.
– В тридцатые годы по заказу властей Алексей Толстой написал первое произведение о Сталине, повесть «Хлеб» или «Оборона Царицына». Повесть была опубликована в 1937 году.
– Очень вовремя, – кивнул Сергей Михайлович. – Герой повести как раз начал чистить армию и искать вредителей в сельском хозяйстве.
– «Оборона Царицына» целиком подчинена сталинским мифам о гражданской войне, – продолжала Светлана Петровна. – Это расширенное воспроизведение «Восемнадцатого года», второй книги романа «Хождение по мукам», где Толстой исправляет свой взгляд на роль Сталина и Ворошилова.
– А при чём тут наш богоспасаемый Амельяновск? – спросил Сергей Михайлович.
– Не знаю, – пожала плечами Светлана Петровна и зевнула. – Может, сам поищешь?
– Читай, читай…
– Летом тридцать четвёртого года Алексей Толстой два месяца жил в слободе Амельяновской, расположенной в левобережье Волги на полпути между Сталинградом и Куйбышевым. В скобках: до 1935 года – Самара.
– Ага! – воскликнул Сергей Михайлович, подливая борща. – Вот где зарыта собака. Два месяца, значит, жил в Амельяновске. И что же он тут делал?
– В этом степном краю, где во время гражданской войны проходила линия фронта между красными и белыми, Толстой собирал материал для повести «Хлеб», расспрашивая старожилов и участников событий. Здесь же писатель набросал план сказки «Золотой ключик».
– Странно, – сказал Сергей Михайлович, – От Сталина – к Буратино… Извилисты пути творца!
– «Золотой ключик или Приключения Буратино», – продолжала Светлана Петровна, – принадлежит к числу лучших произведений мировой литературы… Больше про Амельяновск ничего не говорится.
– А больше ничего и не надо, – Сергей Михайлович придвинул тарелку с картофельным пюре и куском рыбы. – Будем открывать в Амельяновске музей выдающегося советского писателя, создателя всенародно любимого Буратино.
В кабинете главы администрации собралась местная интеллигенция: Сергей Михайлович с Бровеносцем, преподавательница русского и литературы из второй школы, начальник управления культуры, два депутата районного Совета, поэт-водопроводчик и редактор газеты «Колос» Саша Новожилов со своей заместительницей Болкуновой, блондинкой в возрасте, в тонких очках и с неуклюже накрашенными губами.
Кабинет был обставлен строго, с воинским вкусом. Слева и справа от входной двери стояли две тумбочки – с телевизором и монитором компьютера. По бокам большого стола, похожего на бронеплиту и уставленного разноцветными телефонами, застыли, как часовые, два застекленных шкафа. В одном хранились труды классиков марксизма-ленинизма, в другом – сельскохозяйственные справочники. Точно по центру глухой стены располагалась большая карта района, утыканная разноцветными флажками, словно товарищ Кошкин готовил танковую атаку на аграрные угодья. Вдоль остальных стен торчали стулья из гнутых металлических трубок с неудобными жёсткими сиденьями – ровно по десять штук в шеренге.
Приглашённые, гонимые стадным инстинктом, рассаживались только на одном порядке стульев – у окон, задрапированных серыми шторами с аккуратно заглаженными складками. Хозяина кабинета пока не наблюдалось.
– О чём пойдёт звон, не знаешь? – тихо спросил у редактора газеты Сергей Михайлович на правах старого приятеля и постоянного автора районного рупора.
Сели рядом: Потёмкин, Сергей Михайлович и Новожилов.
– Если говорить эвфемизмами… – пожал плечами редактор. – Не было куме хлопот, так купила порося. Примерно так.
Новожилов потрепал иссиня-чёрную, с сильной проседью, шевелюру, усмехнулся и добавил:
– Кошкин уже год перманентно вспоминает о музее Алексея Толстого. Но это не его идея – сам понимаешь, с его мозгами до такого не додуматься.
– А чья идея?
– Сам увидишь.
Тут дверь распахнулась, и на пороге возник во всей красе начальник района – в строгом костюме с красным галстуком, в тонированных очках, с усами и перешибленным носом. Поговаривали, что носом он когда-то приложился на учениях о люк танковой башни. Из-за плеча Кошкина выглядывал некий субъект, похожий обличьем на белого африканца: вывернутые ноздри, толстые верблюжьи губы, выкаченные тёмные глаза и шапочка кучерявых волос, прикрывающая шафрановую плешь. Было ему лет шестьдесят с хвостиком, но держался молодцом. Наверное, не слишком в жизни напрягался.
– Приветствую всех! – бодро сказал Кошкин и пошёл на своё место за бронеплитой.
Субъект с вывернутыми ноздрями торжественно пронёс костлявое тело по кабинету и уселся в одиночестве напротив амельяновской интеллигенции, чтобы видеть и Кошкина, и его невольных гостей.
– Нашего дорогого гостя тут… это самое… многие знают, – сказал Кошкин, отгребая в сторону телефоны. – А кто не знает – представляю: известный московский критик и… это самое… литературовед. Егор Васильевич Махрюта, наш, между прочим, земляк. Прошу любить и не жаловаться.
Критик и земляк раздвинул в улыбке толстые синие губы и показал жёлтые клыки. Глаза его оставались холодными и неподвижными – как у крокодила. Сергей Михайлович знал, что Махрюта время от времени наезжает в Амельяновск. Они однажды встречались в редакции «Колоса», куда «известный критик» присылал безразмерные краеведческие статьи, полные графоманского пафоса и стилистических глупостей.
– Мы собрались тут… это самое… обсудить предложение Егора Васильевича, – продолжал глава района. – Хорошее предложение, скажу сразу. Чтобы потом никто не возникал!
После этого Кошкин закатил спич, из которого было ясно одно: кто не с нами – тот против нас. Наконец, когда все уже решительно ничего не понимали из его страстного монолога, начальник дал слово московскому гостю.
– В двадцатом веке творчество Алексея Толстого оказалось в центре идеологических столкновений двух лагерей, – начал Махрюта высоким каркающим голосом, словно по бумажке читал. – Двух лагерей: советского и антисоветского, русского и антирусского. Не могу назвать другую страну в мире, где имело бы место такое противостояние сторон вокруг писателя национального масштаба. Причина тут, дорогие друзья, в том, что на Руси, а потом в СССР чужие по менталитету силы всегда играли в судьбах страны влиятельную роль. И они со своих антирусских позиций и в своих корыстных целях насаждали на нашу русскую почву бесовское инакомыслие с целью мутировать общественное сознание, расчленить русский дух.
– Сильно сказано! – шепнул Новожилов Сергею Михайловичу. – Учись, студент…
Махрюта услышал шёпот и принялся сверлить редактора районки немигающим взглядом. И сверлил до тех пор, пока Новожилов не замер, как лягушка перед гадюкой.
– Мы тут не шуточки шутить собрались, – сказал, наконец, критик. – А кому неинтересно – может выйти.
– Вообще-то я редактор районной газеты, если помните, – завёлся Новожилов, – а не второклассник. И вы, Егор Васильевич, не классный руководитель!
– Ладно вам, – вмешался Кошкин. – Александр Николаевич, уважь гостя… это самое!
Махрюта снисходительно усмехнулся.
– Продолжаю. За всей этой куртуазностью стояло и, сами понимаете, стоит нечто большее. Творчество и личность Алексея Толстого уже и в российской глубинке не дает покоя некоторым туземным гуру. Эти гуру хотели бы выкинуть на задворки цивилизации наши святыни и славные имена подвижников духа. Их цель – оскопить и выхолостить сознание и ментальность русских людей. В эту страшную кампанию нынче вовлекается, наряду с Москвой, уже и наша многострадальная российская провинция. Какой смысл подобного действа? Довести дьявольское дело до конца! Вы зачем записываете?



