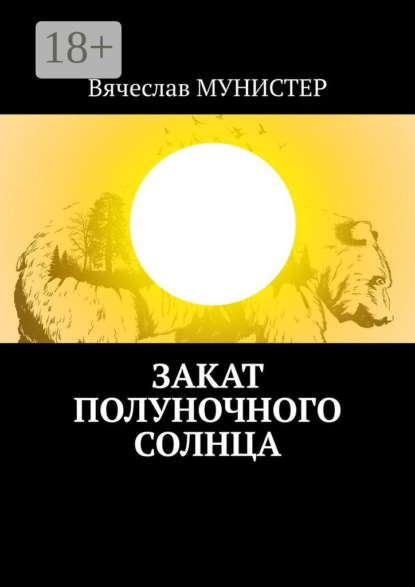
Полная версия:
Закат полуночного солнца
Молчать во время первого за десятидневного «путешествия» не приходилось. Господа обсудили – как оказалось не для всех известную историю о Петропавловской обороне – защите русскими войсками города-порта Петропавловска и территории полуострова Камчатки во время Крымской войны 1853—1856 от превосходящих сил объединѐнного англо-французского флота с корпусом морской пехоты на борту. Оборона Петропавловска является одним из значимых сражений Крымской войны и второй половины XIX века. Но несмотря на это далеко не все знали о таковой – хотя Крымская война в той или иной мере коснулось большинства семей из числа обсуждающих. Более всех рассказывал внук одного из непосредственных участников той героической обороны, состоящей из двух штурмов неприятеля, завершившийся победой русских. Где тот Крым, а где Камчатка? А люди гибли за отчизну и там, и там.
С наступлением утра – потянулись к выходу, даже не завтракая, пассажиры корабля. Они были рады этому клочку земли – сейсмоактивному, расположенному на подножье одного из грозных и высоких вулканов, нависающих над городом и смотрящим с опаской и настороженностью, будто камышовый кот в ожидании прыжка на существо, мешавшее ему крепко спать в зарослях очерета. Тем временем – оставив Евгения Николаевича, страдающего головной болью – одним из новых симптомов отказа, длившегося вот уже третий день, с небольшим числом матросов, и парочке добровольцев на кухни и в других помещениях, боцман с капитаном направились в «управу» – иначе назвать «домик на курьих ножках» было трудно.
С интероцептивной точки зрения, встреча произошла достаточно обычно, с определенными коннотациями напряженности у работников пристани. Проявления настороженности проявлялись, вероятно, не в отношении гостей, а по внутренним причинам. Поздней выяснилось, что красные партизаны устроили несколько налѐтов со стороны гор пару дней назад и скорей всего заметили и «Гельвецию», так как имели наблюдательные посты на склонах вулкана Козельского – расположенного буквально в десяти верст от пристани. Так это до вершины, пост на склоне находился куда ближе! Все сочувствующие белым – а других тут по первому взгляду и не было, находились в состоянии близком к истерии.
Со слезами на глазах встретили тогдашней ночью – будто спасателей, оставшиеся мирные жители. Последний корабль к ним заходил два месяца назад и наш был первым – кто решил строить свой путь через Петропавловск. Первый, флагманский, пароход, ушедший за неделю до «Гельвеции» имел место временной остановки в Японии и шѐл несколько южным курсом. Японцам, все еще находившимся здесь было не до русских.
Внутри деревянной будки было невероятно темно, несмотря на то, что какое-то да освещение было. Оказалось, что электричества централизованного здесь не было, что, в прочем не удивило, а вот дотлевающая лампа, кажется масляная, оказывала угнетающее влияние на находящихся здесь.
А как же было телеграфисту – в таких условиях зрение можно было потерять за пару месяцев работы. Здесь и днем солнца не дождешься, а в вечернее время и свеч нет – заканчивались. Посмотрев на здешние реалии – окинув взглядом, как посветлело, город, он осознал, что ему надо чем-то помочь. Петропавловск представлял собой унылое зрелище – дома были просто ужасны, настолько бедные, что смотря на них хочется плакать даже серьезному и скупому на эмоции мужчине средних лет.
Эмпатия овладела командой корабля – ступивших на землю Камчатки. Осознанное сопереживание привело к тому, что Константин Львович после согласований с Евгением Николаевичем и боцманом приняли решение помочь материальными благами у, выгрузив продовольствия на общий вес в двадцать пудов, подарив три керосиновые лампы и запас керосина и чего-то еще по мелочам. Таким образом они подтвердили свою и не только от себя лично, скорей от лица быстро тающее «Большой Земли», имея в виду «Чѐрный буфер», поддержку страдающим и нуждающимся.
Щедрость или умение дарить – это лучший вид корысти. И единственный. Все остальное необходимо пресекать на корню. Людям, находившимся здесь не хватало общения и информации, они были заложниками собственного географического расположения и знали немного о том, что происходило в глобальном порядке. Связь с большим миром чуть было не оборвалась, после серьезной неисправности радиотелеграфа. Но умельцы смогли восстановить его работу, правда, лишь недавно.
Как и было оговорено – заготовленные еще в летнюю вахту, в самое благополучное время для навигации, тонны пречѐрного сухого – закрытого двумя слоями толстого и непроницаемого материала, схожего на брезент, но таковым не являющимися. Все это добро хранилось в специально отведенных прямоугольных угольных бункеровках – складах под хранение угля.
Угля действительно было много и хватило бы не на одну полную загрузку такого корабля как «Гельвеция». Как вы помните, наш пароход являлся «творчески» переработанным еще в верфях Владивостока, а ранее – капитально доработанным в каком-то японском порту и он был заточен на большую дальность хода.
Никогда ранее база того, что стало «Гельвецией», называемой уменьшительно-ласкательным образом некоторыми моряками просто Геллой – нет, маловероятно, что в честь дочери орхоменского царя Атаманта и Нефелы, сестры-близнеца Фрикса из древнегреческой мифологии, не могла похвастаться тем, что смогла пройти 1700 морских миль без захода за «чѐрным золотом». Первоначально – по техническим паспортам судно при восьми узлах в час дальность хода с базовыми бункерками, что уже на судне, пароход мог пройти максимум тысячу пятьсот миль.
Но японские гении инженерной мысли, а именно там, в период с 1909 по 1911 год по документам, проходил ремонт пароход, совершили модернизацию силовой части – облегчив некоторые части паровой машины, увеличив объем бака и усовершенствовав отвод пара в конденсатор за счет замены цилиндра высокого давления и расширения до невероятных объемов, превышающих в два раза базовый объем хранилищ угля за счет уменьшения трюмов и «компрессии» некоторых других помещений, за исключением среднего трюма – балластного.
Такого добра хватило намного, но уже в двадцатом году, наравне с двумя кораблями подобного класса и грузоподъемности, был проведена еще одна реконструкция, которая уменьшила число пассажирских мест с четыреста восьмидесяти до четырехста нацело, что еще увеличило каким-то неведомым образом, однако после огромной расчетной работы и усиления бортов, увеличив хранилища под «суточное» потребления корабля в двукратном объеме, и еще предоставив до семидесяти пять тонн полезного места.
По итогу Гелла была буквально «заряжена» топливом, чего должно хватить на рекордные 3500 миль при полной загрузке, в так называемом экономичном режиме, понятном лишь героям-кочегарам, – расстоянии от местечка в названной ранее бухте до далекого канадского Ванкувера.
И это с дровами и всем необходимым. Действительно серьезная заслуга. Помимо всего на всякий случай была средняя мачта с парусом – ставшая уже рудиментом, прямиком из белых времен, на всякий случай. Но и паровая машина не являлась легким, не нуждающимся в тяжелом труде, способом передвижения по морям и океанам.
Капитаны и навигаторы разных судов скрипели зубами, наблюдая промасленные лапы в сахарницах на накрахмаленных скатертях, но вынуждены были признать, что пар лучше ветра. Корабли теперь не особо зависели от настроений «зефира».
В одиннадцатом часу началась загрузка углѐм – двадцать пять взрослых мужиков из местных и почти весь состав экипажа участвовал в сложнейшем этапе, обратной стороны монеты, отплатой за тысячи миль относительно легкого для пассажиров, конечно же, путешествия.
Увы, элеваторного механизма на судне не было, так как это являлось прерогативой крупных торговых «галеонов». Понятно, что иметь такую роскошь, пусть даже и в сокращѐнном состоянии, как многочисленный экипаж, торгаш себе позволить не мог. Зато были преимущества в другом. Конструкция судна позволяла принимать уголь без многочисленных грузчиков. На пассажирских суднах это только-только начало внедряться.
Пассажиров негласно предупредили, что лучше покинуть корабль, либо находиться в каютах безвылазно. Кто-то остался, кто-то решил погулять по Петропавловску. Здешние жители, в основном женщины, были крайне гостеприимны, они еще ночью, как писалось выше, вышли поприветствовать пассажиров русского корабля, но это было малозамеченным, по причине ночного времени. Днем же, общение между людьми действительно началось. Погрузку обещали завершить к вечеру лишь следующего дня. Да и не только в ней была вся суть работы, имелись небольшие технические неисправности, которые можно было решить силами в этой уютной бухточке.
Наиболее гостеприимные жители приглашали посетить дома дабы угостить дарами моря – только благодаря им и выживали. Опустошение бункеров и погрузка прекращалась трижды – на полуторачасовые перерывы во время приема пищи персонала и пассажиров. Грядущая ночь обещала быть бессонной – лишь глухой мог спокойно спать во время продолжавшей ночью работы, обремененной звуками скрипов и грохотом вызванным сыпучестью погружаемого твердого топлива. Старые морячилы рассказывали – когда в столовую входили кочегары, все вставали.
Не знаю как на других пароходах – на «Гельвеции» три работающих по вахте триады (четверки) непосредственно причастных к этому делу, естественно имели такую же степень уважения и авторитета как и капитан и действительно, в те редкие моменты – когда они, а так получалось, что по графику первая смена спала, вторая работала, а третья – вечеряла, проявляли уважительный тон зашедшим в камбуз героям тяжелейшего труда, правда, не вставая.
Очень приятно было то, что в Петропавловске они провели часть необходимых и выматывающих время, силы и нервы мероприятия, сопутствующие погрузке и последующей загрузки в внутренние – скрытые бортом помещения-хранилища. Грязные пуще прежнего, отдохнувшие всего лишь одну ночь, наконец в полном составе оторвавшись от накаленной до тысячной температуры топки, теперь, кочегары, с натруженными руками и вышедшими наружу венами, вместе со всеми остальными помогали загружать себя тоннами черной каменной грязи, предвкушая часы, дни, непрерывной работы. Спустя четырнадцать часов бездействия котѐл еще был горячим, его слегка поддерживали с завидной периодичностью в четверть часа. Хотя эти мероприятия являлись скорей избыточными, чем реально нужными, несмотря на опасения – а вдруг остынет.
А «заводить» с нуля этот механизм «часовщикам» было несколько затруднено. Здесь встречались ассоциации с доменными печами – да, что-то в этом роде, если не вдаваться в технические подробности и действительные различия между этими технологическими процессами, общими лишь в одном, а именно в необъятном желании поглотить как можно больше топлива и струями пота на телах тружеников-кормильщиков. Несколько странной была одна традиция, любимая и проводимая несменяемым костяком команды «Гельвеции», бороздящим моря и океаны под русским флагом примерно с четырнадцатого-шестнадцатого года.
А именно, всякий раз, когда проводилась бункеровка – капитан, а за все это время их было двое, взяв в руки кортик, найденный при невыясненных обстоятельствах, брал наиболее примечательный по виду «каменный артефакт», бережно отрезал небольшой кусочек, клал на вышеуказанный кортик под сугубо-верным углом, иначе нельзя, и облизывал его, а затем, с монструозным выражением лица, на время глотал, и только лишь потом выплевывал в сторону моря. Увидев эту странную процедуру, а к ней в обязательном порядке должны быть причастны к просмотру все члены экипажа, Евгений Николаевич, ретировался в какой-то кубрик, то ли от приступа тошноты от увиденного, но вероятно всего – в беспамятстве усугублявшегося абстинентного синдрома.
Ему стали делать замечания даже матросы, замечая его скверный вид, а вот капитан к его счастью перестал это замечать. А Боцман же, как и говорилось ранее был не из людей, умеющим в эмоции и взаимное общение.
Но он боролся как лев, и пока, у него получалось. Все же сказывался небольшой опыт использования морфина – хотя прямой зависимостью от этого не было. С точки зрения наркологии он все еще мог самостоятельно, при его характере, стиснув от боли зубы, сойти с пагубной тропы. Его случай был достаточно атипичным по клинической картине, боль в руке создаваемая его мозгом, все еще обманывала его, но он все же стал понимать, что скорейшим образом все пройдет. Все-таки не зря он имел какое-никакое неполное высшее медицинское, правда, уже устаревшее, в этом аспекте жизни, образование.
Но как только он задумывался о том, сколько он протянет – банку с морфием он спрятал в малом сейфе капитана, что было здравым решением, так как не имел ключи к ним на постоянной основе, ему становилось плохо.
Последний раз он спал три дня назад, и кажется, что мозг вынуждал к нему, испуская плеяду сильнейших сигналов. Никого не предупреждая, он, не участвуя в погрузке груза, самостоятельным образом быстро вбежал в свою каюту и пытался заснуть, пока ночные галлюцинации не овладели им полностью.
Шѐл седьмой день борьбы – этот день был еще нормальным, по сравнению с прошедшими, но чувство тревоги, вызванное отравлением ядами, усугубляло его положение. Навязчивость мыслей о приеме наркотика росла и росла. Его стойкость поражала – так долго воздерживаться могли единицы. Но без иллюзий – в любой момент он мог сорваться и скорей всего это и произойдет. Лишь избранные судьбой могли оторваться самостоятельным образом. Первичная взаимная аттрактивность сменилась раздражительностью и недостатком опыта взаимодействия – моряков не устраивал способ погрузки мешков, которые приходилось долго перекручивать необходимым образом, чтоб потом складировать. Да и мешков заделали лишь шестьсот. Хотя «лишь» будет излишним. Это очень много – с учетом того, что каждый мешок весил примерно восемь пудов, или примерно триста двадцать фунтов, равных более привычным современному обывателю – 120—130 кг. Таким образом – благодаря заготовкам местных было загружено самым простым способом семьдесят с лишним тонн угля.
Но корабль нуждался еще сто сорока – чтоб благополучно добраться до далекого Канадского порта. Здесь в помощь вступили специального образа вагонетки-ванночки, каждая из которых выдерживала вес примерно в тонну. Взяв в руки секундомер, можно очертить заполнение каждой из ванн примерно в дюжину минут, в быстром темпе, еще несколько минут на подъем при помощи лебедочных механизмов, закрепления, еще с пятнадцать минут на снятие и обработку – скидывание груза в угольные ямы, которые и так были заполнены на семьдесят процентов.
Часть же угля при помощи лопат и деревянных ящиков – старых, некрепких, устанавливали в штабельном порядке прямо на палубу, чтоб потом поставить на «колеса», доморощенные вагонетки и аккуратно спустить в трюмы – и заставить их. За сутки погрузили чуть более 130 тонн.
Оставшиеся пятьдесят, вскоре решили взять еще тридцать, были загружены смешанными способами и часть из них остались на главной палубе, в специальном огороженном месте размером с пятьдесят на восемь футов и высотой в десять футов. Для балансировки тридцать были, по договоренности, одолжены. Так за одни сутки белые стали афроамериканцами, сами того не подозревая. Ситуацию спасло еще отсутствие дождя и сравнительно малый конденсат от тумана. Погода вновь радовала, действительно, в это время навигация не осложняла жизнь даже на этом, пусть и не крайнем, но севере. Помылись в бане – крупном, на удивление, здании, расположенной на второй улице, сразу за набережной. Радовались все – лишь кочегары-машинисты смеялись со всех, осознавая свою судьбу, так как они отмывались от «графитовой сказки» каждую вахту. На палубе было грязно, сказывалась выгрузка золы – оставшейся после сгорания, печь второго дня частично очистили, дабы лучше работала, больше такой возможности не будет еще долго. Кочегары второго дня не работали – за исключением двух добровольцев, остальные ребята занимались машинным отделением. Проблемы были решены, воду пресную набрали с Авачи. Неприятным моментом для всех работающих с погрузкой и выгрузкой угля был «синдром шахтѐра». Надышаться за одну большую погрузку и заполнить легкие мелкодисперсной дрянью на всю жизнь – это всегда «приятно». В Петропавловске стояла холодная погода и мало себя проявляла еще беда от «черного золота» – реакция воздуха с залежавшимся твердым топливом.
Да, несколько раз, благодаря правильному «сухому» хранению, относительно сухому – так более точно сказано, ведь это не уровень хранилищ больших портов, между угольков все же вспыхивали язычки пламени, но на это было свое объяснение. Несмотря на первичную критику насчет крепежа мешков, местные ребята оказались опытными и делающими все правильно, не дилетантами. Иначе вся эта бункеровка заняла бы куда больше времени.
Откуда здесь, в Богом забытом городе были запасы угля, старательно расположенные в разного рода крытых и полукрытых хранилищах? На севере Камчатке существовали угольные месторождения, но сжигание камчатского угля дает много золы и мало тепла. Судя по всему – старательные сбережения с далекого Кузбасса, либо закупки с Азии.
Никто не раскроет тайну логистики, ведь действительно от этого зависело многое. Данный уголь на деле был привезен давненько и японским судном, тогда еще угроза эвакуации Владивостока не висела над головой. Из Петропавловска японцы планировали делать плацдарм для захвата Камчатки, по крайней мере так считало пару здешних, видевших все что происходило собственными глазами прошлым летом и ранее. Оговоренную плату за работу предоставили в том числе за счет грузов, поставленных вне «подарочных», частично золотом. Экипаж корабля – как и было договорено еще в Владивостоке, увеличился на шесть человек, восполняя дефицит. Камчадалы неохотно прощались со специалистами, вернуться они могли сюда лишь весной. Но чтоб прокормить семьи – зарплата была уплачена заранее семьям, им пришлось уйти. Хотя, к такому женам моряков не привыкать.
Капитан принял решение переждать наступающую ночь в Авачи, а в пятом часу утра, хотя какое утро, рассвета в это время здесь нет еще и близко, и затем отправиться навстречу Тихому Океану. Решение обрадовало уставших матросов, лишь какие-то семь часов сна, хотя это было супротив графика. Попрощались и пассажиры с местными, кое-кто даже обменялся небольшими подарками на память.
С грустными лицами уходили и местные моряки на «Гельвецию». Ведь так хорошо было ходить на небольших лодках на пару дней, а тут – аж до Америки. И да – капитан все же получил то, что хотел, уху из камчатского лосося! И не только он; три центнера замечательной рыбы было отгружено в качестве эдакого бартера. В четырех деревянных бочках – две засоленные, две – закинутые льдом, одолженным у горы, свежей рыбы: тут и горбуша, нерка, тихоокеанский лосось и сѐмга. В общем-то райское разнообразие для любителя. Часть из этого добыта в районе Авачи, либо в окрестностях ближайших горных речках.
Машина заработала, котѐл нагрелся, стропы для подъема грузов привели в исходное положение, «корзины» запрятали, непромокаемой тканью палубное хранилище прикрыли, включили габаритные огни и начали движение. Менее через час ходу Авачинская бухта была преодолена. Набрав допустимую скорость в девять узлов пароход шѐл ровно на восток – к неосязаемой и не отмечаемой на большинстве карт линии перемены даты. Это очень интересная и парадоксальная линия на глобусе. Время вокруг нее течет по своим правилам. Расположилась она восточнее самой восточной точки России, за островом Ратманова и южнее.
Известный любитель приврать барон Мюнхгаузен рассказывал пораженным слушателям, что во время посещения Северного полюса, помимо знаменитой охоты на белых медведей, он смог перекинуть камень через вчерашний день, а разбежавшись посильнее, перепрыгивал из сегодня во вчера. Это звучит парадоксально, но так ли далек от истины барон Мюнхгаузен? Истина где-то рядом… Линия перемены дат нигде, кроме Антарктиды, не проходит по суше.
Есть случаи, когда она проходит между близко расположенными островами: например между островами Диомида, которые находятся всего в четырех километрах друг от друга. Линия делит пролив между ними ровно пополам.
Но до нее надо было дойти. Корабль вышел, теперь уже по серьезному, без лазурного попечительства со стороны заливов и морей в океан. Два полных дня не запомнились ничем. Совершенно ничего нового не происходило. Это время активного ведения дневников всеми грамотными, а неграмотными тут были лишь малые дети, и может быть жены купцов второй и третьей гильдии, и имеющими средства к написанию «великих» писем самому себе о том, как им бедолагам грустно и что океан не хочет заканчиваться, как и Российские территории. И как жаль, что все это вскоре будет сдано дьяволу.
И в общем то все, будто под копирку, менялись лишь имена, почерки и объем. У кого чернил было много, а таких товарищей было с десяток, писали без всяких ограничений, у кого мало – выводя каждую буковку. Ну что с людей взять – любили они таким заниматься. Меньшинство писало в повествовательной форме, большинство – комбинируя. Единицы занимались более путным делом – выводя строки наукообразного текста или чем-то подобным.
Был, как и полагается, и художник, правда без мольберта – он был упрятан. Рисовал шаржи, таким образом потешая окружающих и неплохо так зарабатывая. Смекалка, так сказать.
Рисуя очередной шарж, в полутѐмной каюте, он периодически встречал «гостей» – недовольных объектов шаржа, в основном мужей тех, кто это заказал. Никто и не знал о том, что происходило в знаковом для них Спасске. А происходило печальное – для многих. На календаре было восьмое октября – со всех стороны «Гельвецию» окружал бездушный Тихий океан.
***
«7 октября части ударной группы 2-й Приамурской дивизии большевиков вышли на подступы к спасскому укрепрайону, обороняемому Поволжской группой генерал-майора В. М. Молчанова. Укрепрайон А уже восьмого октября части ударной группы начали штурм укреплений, в этот день подразделения овладели третьим фортом и к исходу дня закрепились на северо-западной окраине города. Утром 9 октября красные перешли в наступление по всему фронту. После короткой артподготовки к полудню они заняли северную часть города. К 14.30 были захвачены ещѐ четыре форта, и белые отошли на последний укрепленный рубеж в районе цементного завода, однако затем, оказавшись под угрозой охвата с флангов, были вынуждены оставить Спасск.»
В этом сражении потери белых составили свыше тысячи человек убитыми и ранеными, части красных захватили не менее 284 пленных, две артиллерийские батареи, три полковых знамени, штаб Поволжской группы белых и даже бронепоезд. В результате Спасской операции в Приморье войсками большевиков был ликвидирован стратегический узел обороны белых и открыт путь на Владивосток.
И останутся как в сказках, как манящие огни —
Штурмовые ночи Спасска, Волочаевские дни… «По долинам и по взгорьям» Владивосток с еще большей силой проводил эвакуационные работы. Пароходы отправлялись одни за другим, по больше мере уходили японские интервенты. Новость о захвате Спасска пронзила городской слух за пару часов до его реального взятия или освобождения – я судить не буду, являлось ли это оккупацией или «исцелением».
Евгений Николаевич стал подходить к порогу лишения рассудка. Он сорвался – зачем он себя обманывал? Он бережно оставил на всякий случай в каюте несколько микрограмм порошка, а шприц всегда был при нем. Восьмой день борьбы закончился крахом. Как, впрочем, и ожидалось. Но он уже болезненно осознавал, что морфия осталось не так уж много и когда же он кончится. И что делать тогда? Только мысль о том, что он уже подходит к концу выводила его из себя.
Сухой кашель – побочный эффект от приема таких средств усугублялся. Капитан уже косо смотрел на своего заместителя, а третьего дня – подходя к окрестностям Алеутских островов, сделал замечание и предположил, что г-н Врублевский заболел туберкулезом? Но Евгений Николаевич вновь придумал причину для хорошей легенды – по крайней мере той, в которую поверит и сам наркоман и его окружающие.
Не скучали в те октябрьские дни лишь немногие. Среди них – знакомые нам большевики под прикрытием. Они пытались стебать общественность, вступать в разговоры, спорить, и выяснять привычки и повадки нужных их лиц.
Сблизится правда с ними они так и не смогли – по причине истероидного типа личности у «пациентов». Скорей даже вызвали у них проявления антипатии и неприязни к ним же. Но с другой стороны выяснили несколько замечательных фактов, которые даже решили записать на бумагу, на всякий случай, вдруг забудут. По большой мере это касалось историй, рассказанных с безмятежным пафосом о некоторых поступках. отождествляемых большевиками как преступлениями.
– Но ничего, придет время и мы с них подать их же шкурой возьмем. Твари подколотные, гореть им. – Бобров-Негласов был в ярости, разбалтывая уже ставший холодным горячительный напиток, казалось, будто он ложкой перемалывает что-то.



