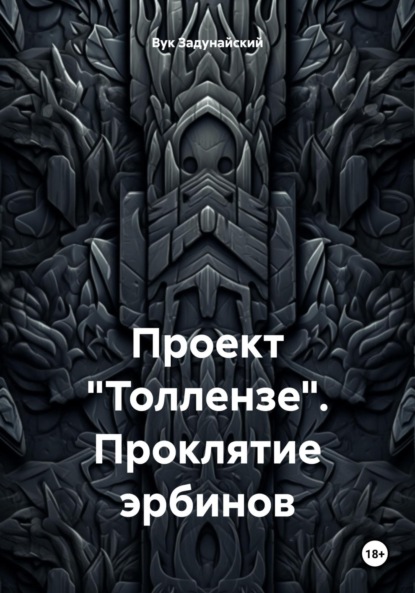
Полная версия:
Проект «Толлензе». Проклятие эрбинов
Пока кнез говорил свою речь, младший брат Дарёнки дернул ее за косу, а когда та обернулась, чтобы сказать ему что-то в ответ, состроил ей козью морду. Будущий кнез – а у славных людей, как у представителей гаплогруппы R1a, действовал, как правило, принцип минората – в детстве был непоседливым и хулиганистым мальчишкой. Когда вырос, он показал всем, чего он стоит. И младший сын его, когда вырос, тоже показал.
* * *
К вечеру Мечеслав удостоился новой милости кнеза – его пригласили… в баню! Ковач уж и не знал, что и думать. Но знал одно – высокое доверие кнезово придется сполна отслужить. С одной стороны, для Андрея Сергеевича Ковальчука это было совсем неплохо – погрузиться в самую гущу событий и добыть ценные сведения для проекта, с другой – а не возникало ли в ходе такого сближения конфликта интересов?
Баня кнезова стояла на одном из островов, поросших, как и все берега тут, соснами. Сюда кнез частенько наведывался очистить тело и разум. Они вдвоем сели в долбленку-однодревку, выточенную из ствола дуба, приближенные кнеза уселись в другие лодки. Кнез сам взял в руку весло-гребок – Мечеслав вспомнил анекдот из своего времени: «Не знаю, кто ехал, но водителем у него сам Хозяин».
Тихо было вечером на озере. Водная гладь напоминала зеркало, отражающее закатное небо. Лишь в камышах вдоль берега возились и крякали утки, и легкий туман стелился над водой. Да охочие до свежей крови комары зудели, куда без них, раздражали они во все эпохи примерно одинаково.
Баню наши предки в бронзовом веке принимали примерно так же, как и люди в веке двадцать первом. В небольшом срубе, бревна которого изнутри потемнели – ведь топили-то тогда по-черному! – была сделана кладка из гладких речных камней, предтеча классической русской печи. Внутри кладки разжигался огонь, а камни, раскаляясь, нагревали уже и всю баню, и большую глиняную корчагу с водой, куда накиданы были веточки можжевельника. Предки наши не были грязнулями.
К приходу кнеза баня была уже горячо натоплена и снабжена всем необходимым, а именно: дубовыми вениками, чистыми льняными утиральниками и рубахами, а такоже кувшинами со свежесваренным пивом. Зашипело пиво, плеснутое на раскаленые камни, в нутро пошел одуряющий запах хлеба, и чувства полетели кувырком. Понеслась душа в ирий!
Мечеслав уважал бани, он и в своем времени с удовольствием в них парился, но баня кнеза – это было что-то особенное! Они парились всю ночь – хотя в народе говорили, что так делать нельзя, дескать банник, банный дух, заморочит и хворь нашлет. Но что кнезу какие-то банные духи! Пиво у них шло и внутрь, и на камни. Когда жар становился нестерпимым, они выпрыгивали из сруба и с криками бросались в прохладную озерную воду. Потом опять влезали внутрь, и так много раз. И вениками друг дружку хлестали. Наверное, это было выражением высшего кнезева доверия, в святая святых допускали только избранных.
Уже под утро они, завернувшись в шкуры, сидели у дровника на пеньках и допивали последний кувшин, передавая его от одного участника банной церемонии к другому. Все преграды между этими мужчинами были сняты. Какой уникальный материал для исследования о банных традициях предков, а заодно и о методиках внутриэлитной коммуникации – политологи с руками оторвут!
Пришло время серьезных разговоров.
– Ты, небось, гадаешь, зачем я зазвал тебя в гости, а потом – в баню затащил, а? – спросил кнез у Мечеслава.
– Есть такое, – ответствовал тот.
Он-то уже догадался, что от него чего-то хотят, только присматриваются сперва, проверяют и оценивают, годишься ли ты, совладаешь ли. Но роль надо было играть до конца.
– Удивляться нечему, – продолжил кнез. – В бане проверяется, каков муж, что собой представляет. Здесь ты наг, ничего не скроешь.
– А кто в баню не ходит, тот недоброе замыслил, – добавил один из гридей кнеза.
– До́бро Тихомир говорит, – раздался одобрительный гомон.
– Теперь ты с нами, а мы – с тобой. Теперь у нас от тебя нет тайн, – резюмировал кнез, – и у тебя от нас не должно быть.
Ставки повышались.
– Что я должен сделать? – спросил Мечеслав, сам удивленный своему спокойствию.
– Сварожич указал на тебя, как на посланца.
Мечеслав, который к тому моменту как раз приложился к кувшину, чуть не поперхнулся пивом.
– Ты – посланец.
Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что именно его, ковача Мечеслава, кнез избрал для того, чтобы послать к варгам. Перспективы открывались заманчивые, особенно с научной точки зрения. Но и издержки процесса тоже повышались. Буквально – или грудь в крестах (ну ладно, в гривнах, за неимением здесь орденов), или голова в кустах.
– Мне ехать к вождю эрбинов? – спросил Мечеслав, предваряя объяснения.
– Я был прав, – ответил кнез. – Ты не только слушаешь, но и слышишь несказанное вслух. Из тебя будет добрый посланник.
– Что я должен буду сообщить кнезу эрбинов?
– У эрбинов не кнез, у них – кёниг. Они украли у нас это слово и переиначили его, Чернобогу на радость.
Логично, черт возьми, логично. Родственные народы, родственные языки. И всё время кому-то кажется, что у него что-то украли. Андрей мог слету назвать несколько теорий, согласно которым это название считали позаимствованным славянами именно из германских языков. «Кнез» (точнее – «кнедс», отсюда и польский «ксендз») и «кёниг»… Если убрать гласные, то получалось примерно одно и то же – «кнд» и «кнг». Вот из-за таких вещей и начинались большие войны.
– Да ты слушаешь ли?
Мечеслава отвлек от раздумий вопрос кнеза. Пора было вернуться в реальность.
– Конечно, светлый кнезе. Я готов ехать к кёнигу эрбинов. Только в чем моя… ммм… задача?
Кнез, как видно, был удовлетворен сообразительностью ковача, она избавляла от долгих объяснений.
– Твоя поездка не будет тайной. И тайной не будет то, что я передам кёнигу Адалвалфу. Но не говори об этом никому здесь, об этом ведаем только мы, – кнез показал рукой на остальных участников беседы. – Понимаешь?
– Как же не понять? – ответствовал ковач. – Что я должен сказать кёнигу? Что мы будем биться до конца, и лучше б ему убраться подобру-поздорову?
– Это само собой. Но речь не о том. Повоевать мы всегда успеем. Но ныне нам потребен мир…
Мечеслав опять поперхнулся бы пивом, но оно к тому времени закончилось. Кнез, еще совсем недавно собиравшийся воевать не на жизнь, а на смерть, вдруг выразил намерение мириться. И с кем? С извечными варгами, убийцами своего народа. Звучало это опять-таки странно и совсем не в духе кнеза – по крайней мере, так казалось Мечеславу.
– Мне говорить с кёнигом Адалвалфом о мире? – уточнил он.
– Да.
– Но отчего…
– Не спрашивай. Будет много лишних слов, но не будет правды. Если эрбины отпустят всех наших людей и уйдут за Лабу, нам с ними не будет нужды воевать…
Видно было, что это решение далось кнезу нелегко, но он упорно гнул свою линию.
– Мне предложить кёнигу мир в случае, если он отпустит наших людей и уведет войско за Лабу? – еще раз переспросил Мечеслав.
Кнез прикрыл глаза в подтверждение этих слов. Теперь понятно, почему он хотел сохранить миссию посольства втайне. А также почему не отправил с посольством боляр, которым с руки было всем этим заниматься – тогда тайну сложно было бы соблюсти. Ковач же Мечеслав семьи не имел, у него не было родни в дружине и среди боляр, на него в этом вопросе можно было положиться. Но само предложение мира… Оно в сложившейся ситуации напоминало то ли трусость, то ли предательство. А может и хуже – ошибку. Однако менять свои решения кнез привычки не имел. Сам-то Мечеслав тоже был за мир обеими руками. Но есть мир и МИР! Когда враг приходит к тебе в дом, надо обороняться, а не рассуждать о пользе мыла в бане. Мир хорош только на кончике копья – так, кажется, говорила одна известная особа?
– До́бро, светлый кнезе. Я сделаю то, что хочешь ты, хотя и не лежит у меня к тому душа…
– Думаешь, у меня лежит? – отпарировал кнез.
– Ты хочешь усыпить эрбинов разговорами о мире, а потом нанести удар?
– Нет. Мнится мне, они не хотят мира. И за любыми словами о нем будут скрывать желание победить обманом.
– Тогда ты хочешь, чтоб они думали, будто ты слаб и потому просишь мира? А на самом деле…
– И тут ты ошибаешься. Боги хотят иного…
Мечеслав всякий раз пасовал, когда речь заходила о богах. Понятна была вера предков в сверхъестественные сущности, которые всё и всех расставят по местам, виновных накажут, а правых вознаградят. Но наука тут была бессильна.
– Мне понятна причина вопросов твоих, – сказал вдруг кнез. – И потом объясню всё, ежли захочешь. Но нынче покажу тебе то, что эрбины прислали мне. Тихомир, достань! Не могу даже в руках держать мерзость эдакую.
Тихомир сходил к их вещам, сложенным в предбаннике, взял там невеликий сверток, вернулся и развернул льняную тряпицу. От увиденного даже Мечеславу стало не по себе, он невольно откинулся назад и вздрогнул. Кнез наблюдал за ним и понимающе улыбнулся одними глазами.
– Видишь, да?
Да уж как было не видеть! На ладони Тихомира лежал искусно вылитый из бронзы с инкрустациями из темного камня знак «Черное солнце».
* * *
Вообще-то свастика встречалась у разных народов на всех континентах – в Евразии, Африке и даже в доколумбовой Америке. Она была замечена в древнем Китае и в Японии, в Греции – пресловутый меандр – и в Риме, в Египте и на Кавказе. Самая ранняя свастика эпохи неолита была обнаружена в дошумерской Месопотамии, у так называемой культуры Убейд – сохранилась их знаменитая керамическая миска белого цвета с черными свастиками на дне и бортиках, на ней еще были изображены какие-то земноводные. Свастику использовали разные народы – тюркские, финно-угорские, кавказские. Нет нужды объяснять, какое значение свастика играла в жизни народов индоевропейских. Это был знак солнца, знак жизни, знак вечного движения.
Но в один прекрасный день что-то пошло не так. Да, свастику рисовали везде, по делу и без, в основном, что называется, на счастье – примерно так ее использовали наши предки. Но как из безобидного и позитивного в общем знака она превратилась в жуткий символ нацизма – вопрос до сих пор наукой окончательно не выясненный. То есть, все этапы процесса и его участники были прекрасно известны, а общая картина – не складывалась.
Вроде свастическими идеями баловались всякие оккультисты, Блаватская писала про черное солнце… Но это были, по меткому выражению Гегеля, разводы на канве категорий. Еще до Первой мировой войны это дело подхватил австрийский оккультист и автор ариософии Гвидо фон Лист – но это тоже было в рамках тогдашних интеллектуальных развлечений с душком декаданса и эзотерики. В эпоху Интербеллума эти идейки понес и развил второсортный поэт со звучной фамилией Шулер – но это тоже была в основном оккультная и конспирологическая болтовня. Однако же на лекциях этого Шулера побывал некий, тоже второсортный австрийский художник – и завертелось…
По крайней мере, так полагали ученые, исследовавшие вопрос. А то самое «Черное солнце» возникло в 1936-м, когда рейсхфюрер СС Гиммлер приказал на светло-сером мраморном полу зала обергруппенфюреров в замке Вевельсбург выложить серпентином символ, состоящий из двенадцати рун зиг, ставших символами его мрачной организации. Потому и считалось, что история появления «Черного солнца» хорошо известна – в отличие от зыбкой истории свастики вообще. Все отсылки на труды Блаватской и диски Меровингов, где якобы наблюдались такие же символы, были историками отметены. И вот пожалуйста! Перед Мечеславом лежало то самое «Черное солнце», в тринадцатом веке до нашей эры. Всё это требовало объяснений.
Он закрыл глаза, не в силах смотреть на зловещий символ. Да, тут было чему ужаснуться или впасть в ярость. В нее и впадали воины Красной армии, когда крушили логово германского нацизма в сорок пятом. Похожие чувства испытывали российские солдаты и донецкие ополченцы, когда в мае двадцать второго года выводили из мариупольских подземелий капитулировавших бойцов «Азова», с ног до головы татуированных свастикой. За этими символами много чего тянулось, что хотелось бы не вспоминать, но нельзя было забыть.
Андрею Сергеевичу припомнилось кое-что из семейной истории, и он отключился – на какие-то мгновения. Мать рассказывала ему про свою бабушку, которая была родом из Новгородской области. Во время войны в их деревню пришли немцы и латыши и принесли с собой смерть: всех, кого сумели схватить, заперли в колхозном сарае и сожгли, а кто пытался убежать – застрелили. На черных петлицах формы у них была эта проклятая свастика, раскрученная против часовой стрелки. Кстати, в культуре Убейд свастика тоже была раскручена наоборот.
Бабушке мамы – в семье ее называли баба Аня – тогда было лет восемь. Как только ее мать увидела, что к их дому идут фашисты, она взяла дочь буквально за шкирку и выкинула в окно, выходившее на другую сторону двора, со словами «бежать быстро, не оборачиваться, ни в коем случае не останавливаться и не возвращаться, что бы ни происходило». Баба Аня и побежала, что было духу – сперва к покосившемуся плетню в дальнем углу двора, за сараем, потом к заснеженным кустам на опушке, потом в лес. За спиной раздавались крики и выстрелы, но она от того бежала только быстрее и каким-то чудом добежала – в одних носках по глубокому снегу! – до соседней деревни, где у них была родня. Там и рассказала всё, что видела. Это уже потом она узнала, что в ее родной деревне почти все погибли – и мать, и дедушка с бабушкой, и ее братики… Но она успела предупредить других, люди быстро собрались и ушли в лес, к партизанам. Каратели и к ним заглянули – но в деревне уже было пусто. Ребятишек потом переправили через линию фронта и раскидали по детдомам. До сорок седьмого года баба Аня прожила в Горьком, а потом ее забрал к себе дядя – из той самой деревни, которую она невольно спасла. Он воевал в партизанском отряде, потом в полковой разведке дошел до Вены и Братиславы, а после войны обосновался в Ленинграде, где воспитывал бабу Аню вместе со своими детьми (отец ее погиб на фронте). Ее сын и стал дедом Андрея Сергеевича.
Мама часто рассказывала ему эту историю, с самого детства, это была такая семейная легенда. Маленький Андрюша слушал ее с ужасом и, наверное, поэтому запомнил. Он уже тогда понимал, нутром чуял, что мир несовершенен, но что он несовершенен настолько, что стариков, женщин и детей сжигают заживо и расстреливают просто потому, что у кого-то в голове шарики за ролики закатились – этого он простить миру не мог. Наверное, потому он, даже после престижного диплома по технической специальности, пошел в историки и ввязался во все эти эксперименты…
Так Черное солнце однажды уже распростерло свои лучи над предками Андрея Сергеевича, но не сумело совсем сгубить его род. Видимо, оно попытается сделать это сейчас, ведь из трудов оккультистов и ариасофов было известно, что Черное солнце нельзя увидеть, это могут только высокодуховные личности, прибегающие к медитации и массажу зобной железы. Надо полагать, к таким относился и малоизвестный австрийский художник, и рейсхфюрер СС Гиммлер. Непосвященные же люди, которые видели Черное солнце, теряли рассудок. Андрей Сергеевич не хотел становиться сумасшедншим, ковач Мечеслав – тем более. Его ждали великие дела.
Всё это за пару мгновений пронеслось перед его мысленным взором. Но пора было возвращаться в реальность. Мечеслав открыл глаза. Похоже, его раздумья кнез сотоварищи приняли за сомнения.
– Ты не передумал ли ехать? – спросил его кнез с тревогой во взоре.
– Я поеду всюду, куда ты меня пошлешь, и сделаю всё, что ты мне скажешь, светлый кнезе, – ответил Мечеслав спокойно.
– Теперь ты понимаешь, что означает сей знак, и какие бедствия он несет нам?
Мечеслав кивнул в ответ. Андрей Сергеевич же ответил, что знает более чем кто-либо.
* * *
Выехали споро. Если вывести за скобки те риски, которые подстерегали ковача Мечеслава в его нелегкой миссии, для сотрудника Института экспериментальной истории дела складывались как нельзя лучше – он находился в эпицентре событий, предшествующих так называемой «нулевой мировой войне», и обладал уникальной возможностью не только наблюдать и фиксировать события, но и даже участвовать в них. Институтское руководство проекта «Толлензе» дало добро на его миссию. Так что всё шло как нельзя лучше.
Когда-то давно, у истоков экспериментальной истории, отцов-основателей очень заботили те малопредсказуемые последствия, которые историки, занятые в проекте, могли спровоцировать в рамках естественного исторического процесса. Речь шла не о каких-либо злоупотреблениях – об этом тогда вообще мало думали – а о том, что любая деятельность, что называется, «во времени» может ipso facto наломать таких дров, что ход истории исказится, и тогда вообще непонятно, сможет ли человечество вернуться на траекторию своего развития, а конкретный сотрудник – в свой временной пласт. Этого чрезвычайно опасались. Потому и возникла теория соразмерного вмешательства. Она заключалась в том, что деятельность историков-экспериментаторов должна сводиться к минимуму. Об этом подробно написано у Стругацких в их знаменитом романе «Трудно быть богом», повторять нет смысла. Советские фантасты были люди очень непростые, порой близко общавшиеся со спецслужбами, посвященные в иные тайны, над которыми по каким-то соображениям было позволено слегка приподнять занавес секретности.
Однако все эти теории не отвечали на вопрос о том, что делать с тем фактом, что все явления во Вселенной связаны во времени жесткой причинно-следственной связью. Отсюда и появилось понятие «эффект бабочки» – это уже Брэдбери. Персонаж его рассказа «…И грянул гром» случайно раздавил бабочку в прошлом, отчего в земной истории произошли необратимые изменения. Рассказ часто цитировали в работах по теории хаоса, однако сам термин «эффект бабочки» появился позже, он вошел в научный обиход после публикации в шестидесятых годах статьи Эдварда Лоренца «Предсказуемость: может ли взмах крыльев бабочки в Бразилии вызвать торнадо в Техасе?». Да что Брэдбери! Еще у замечательного детского поэта Корнея Чуковского был обнаружен самый ранний из эпизодов с бабочкой: «…Тут бабочка прилетала, крылышками помахала, стало море потухать – и потухло». И это не говоря про гигантскую бабочку Мотру из фильмов о Годзилле!
Поэтому долгое время историки-экспериментаторы шагу не могли ступить без согласования с Центром управления. Но последующие исследования показали, что история – вещь прочная, как ее ни разрушай, как ни пытайся вывести ее в другой пространственно-временной континуум, она всё равно непостижимым образом вернется на свою основную траекторию. Отдельные эпизоды ее флуктуации могли затронуть, магистральное направление развития – нет. Так что никакие бабочки и крылышки не могли ничего изменить. Оставалась доля процента на различные сбои, но в целом система работала исправно. Пока ее не начали шатать целенаправленно…
Короче, Андрею Сергеевичу Ковальчуку дали карт бланш на его посольскую миссию. Разумеется, не забывая при этом про принцип соразмерного вмешательства.
* * *
Цель Мечеслава и сопровождавших его четырех гридей находилась где-то за рекой Лабой, которую племена гаплогруппы R1b называли Эльбой (Альбой), что суть одно и то же: и Эльба, и Лаба на родственных индоевропейских языках означали «белая». Эта устаревшая форма сохранилась в слове «лебедь», потому и словосочетание «лебедь белая» являлось фактически «маслом масляным», а «черный лебедь», которых так любят англосаксы – это был натурально оксюморон.
За три дня они далеко продвинулись на юг по еле различимой тропе. Это был старый соляной путь из гарда Глейна до Зверина, по которому везли соль с южных земель. Путники нигде не останавливались, кроме как для ночевок. По расчетам Мечеслава, они должны были уже подъезжать к границам земель глинян. Тут они посланники кнеза Бодрича впервые встретились с войной. Навстречу им по тропе шли люди – в основном женщины с детьми и старики, тащившие кули со своим нехитрым скарбом. Кто-то успел увести корову или лошадь, но таких было немного. Взрослых мужчин же почти совсем не было. Это как раз понятно – все способные держать оружие ушли навстречу варгам. Люди были измождены и перепуганы, но стоически выносили тяготы бегства.
Мечеславу живо припомнилась история с маленькой девочкой, бежавшей по засыпанному снегом лесу в одних носках… Он скомандовал привал. Рядом нашелся родник, они натаскали оттуда в кожаных ведерках воды и напоили людей, те перевели дух и начали наперебой рассказывать о пережитом. Эрбины пришли ночью. Жители деревни – а это были древяне с того берега Лабы – не успели толком приготовиться. Мужчины похватали оружие и пошли отбивать варгов, но тех было намного больше, так что своим отчаянным броском воины древян только выиграли время для женщин и стариков, которые едва успели схватить детей и бежать. А про тех, кто не успел, с остекленелыми глазами рассказывали ужасы: их согнали в большой дом старосты и живьем сожгли.
Андрею Сергеевичу всё это опять кое-что живо напомнило. Правда, на сей раз он четко понимал, что именно. Прав был Екклесиаст – нет ничего нового под солнцем. Люди враждовали друг с другом еще со времен палки-копалки, дубины и каменного зубила. Но тут было что-то иное, а что – он, как историк, пока не мог объяснить. Явное сходство модуса операнди тут было вплоть до отождествления. Столь разные условия, столь разные эпохи… а результат один и тот же.
После краткого привала беженцы пошли своим путем, на север, послу же кнеза со спутниками надлежало двигаться на юг, в земли, на которые пала тень войны. Чем дальше продвигались они, тем чаще стали попадаться на дороге беженцы – и группами, и поодиночке. Люди были еле живыми от усталости и пережитых ужасов, и все говорили примерно одно и то же: варги пришли ночью и начали убивать всех подряд, а кого удалось поймать, того сжигали живьем. Больше ничего от несчастных измученных людей нельзя было добиться. Только один крепкий дед с мрачным обветренным лицом, уводивший сноху с внуками, поведал, что у напавших на их деревню на одежде были знаки Черного солнца, развернутого не посолонь, а в обратку. Мечеславу не надо было объяснять, что это значит. Черное солнце не просто так крутилось в обратном направлении.
Судя по всему, эрбины уже вовсю хозяйничали в землях древян к югу от Лабы. Захвачены и сожжены были гарды Глеин и Лугов, а также множество более мелких селений. Беженцы шли нескончаемым потоком, воинам приходилось расчищать себе путь.
Веками жили тут древяне – если точнее, с середины четвертого тысячелетия до нашей эры. И так бережно они относились к своему дому, что все леса, росшие с периода последнего оледенения, были ими сохранены – какие ж древяне без деревьев! Это потом, уже во втором тысячелетии нашей эры, когда эти места окончательно подмял под себя германец, на месте лесов обнажились вересковые пустоши. А сейчас вокруг шумели дубравы и буковые леса, где спокойно бродили зубры, туры и олени. Но спокойствию этому приходил конец. Они наблюдали исход племени древян со своих земель. Это была, без иронии, трагедия библейских масштабов с элементами геноцида – кстати, если верить некоторым историкам и богословам, исход Израиля из Египта тоже должен был состояться весьма скоро, в конце тринадцатого века до нашей эры, но этим занималось другое отделение Института.
Согласно первоначальным планам, посол со спутниками должны были переправиться через Лабу по броду возле небольшого пограничного гарда глинян под названием Домаличи. Сам гард, как и многие городища славян, стоял на частично насыпном высоком берегу. Корень «берг», то есть гора, в германских языках, между прочим, соответствовал старому доброму русскому «берегу» – «брг». С двух сторон у прибрежного холма были прокопаны рвы, заполненные водой, с третьей стороны гард омывала река, с четвертой – топкий ручей. Подступиться к нему было непросто, но… Когда путники приблизились к городищу, оно вовсю пылало, оттуда слышались истошные крики и лязг оружия. Это означало, что эрбины уже переправились через Лабу и намереваются идти далее в земли славных людей, неся с собой смерть.
Мечеслав усмехнулся. Неисповедимы пути истории! Спустя много веков это место станет немецким городом Дёмиц – именно сюда в сорок пятом дошла Красная армия, и именно этот город много лет был пограничным пунктом между ГДР и ФРГ. Впрочем, ту же службу выполняла и сама Белая река. Много веков разделяла она арьев и эрбинов, славян и немцев – и не смогла разделить. А еще некогда римляне тут стояли против племен варваров, которые скопом обозвали германцами, хотя там были далеко не только они. А в апреле сорок пятого именно на Эльбе состоялась историческая встреча советских войск с армиями союзников в местечке Торгау – ныне оно под названием Торжище располагалось немного выше по течению реки, и были все основания думать, что оно тоже захвачено эрбинами.



