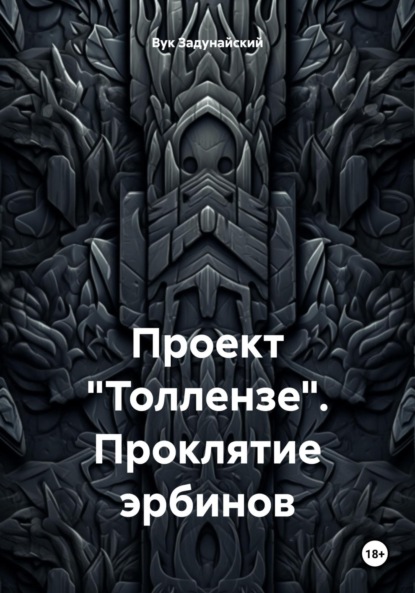
Полная версия:
Проект «Толлензе». Проклятие эрбинов
* * *
«Что мы знаем о лисе? Ничего. И то – не все».
Мечеславу внезапно вспомнился старый детский стишок. Лисы считались существами уважаемыми и магическими у многих народов – Андрей не так уж и давно закончил археологический, и полученные там знания по истории древних верований еще не успели выветриться из головы. Одна кицунэ, японская лиса-оборотень, чего стоила! Она была инфернальной, эта девятихвостая японская лисонька – кстати, он опрометчиво не подсчитал, сколько хвостов у Лапсы, это могло открыть глаза на ее природу. Обычно такие лисы соблазняли мужчин и высасывали у них жизненную силу. Тявканье лисиц японцы как раз и называли «кицу», откуда и пошло ее название. Ну что же, весьма реалистично.
По одной из версий, в Японию девятихвостая лиса-соблазнительница попала из Китая. Впрочем, лисицы куролесили также в Корее и во Вьетнаме. Отметились они и в Европе, с ее «Романом о Лисе» и Рейнеке-лисом Гёте. Да и наша русская Патрикеевна тоже была ох, как непроста! Об этом не все знают, но прозвище свое рыжая получила от древне-литовского князя Патрикея, сына Наримунта, из рода Гедиминовичей, подвизавшегося на службе у Господина Великого Новгорода. По слухам, князь был оборотнем и за ним числились мутные дела с новгородскими ушкуйниками. Так-то по древнерусской традиции лиса была спутницей и воплощением богини Макоши.
Часто в легендах лисы описывались хитрыми бестиями, соблазнительницами и паразитками, приносящими своим жертвам сплошные беды и несчастья. Однако встречались и мудрые лисы, посланцы богини Инари – верные друзья и прекрасные любовники, дарующие людям удачу. После нынешней ночи Мечеслав готов был поверить в любые байки, будто он и не жил никогда в двадцать первом веке.
* * *
Разбудил его рассветный холодок – у хижины не было капитальных стен, их роль играл плетень, пропускавший и дневной свет, и прохладу. Состояние было неважнецким, как после бодуна, только крепкого алкоголя он вчера точно не пил – перегонный куб здесь еще не изобрели. А вот всякие настоечки – пожалуй, что и пригубил. Небось, на маке, белладонне, мухоморчиках всяких. Вештица была опытной не только по любовной части, но и в зельеварении.
Мечеслав поднялся с лежанки из сосновых лап и сухого мха не без труда. Всё тело болело, как будто по нему ночью проехался отсутствующий в этом мире поезд. Руки и ноги дрожали и функционировали как-то неуверенно. Но при этом всём он был… совершенно счастлив. Вот ведь! Лисица-оборотень обычно губит своих любовников, забирая у них силы – но он никогда не слышал, что она делает их счастливыми. В мире вокруг много чего творилось, но он забыл на время и про войну, и про кнеза, и даже про проект свой забыл, а только вспоминал то, что случилось с ним ночью, и улыбался.
Когда Мечеслав пришел в себя окончательно, он обнаружил, что сидит на лежанке абсолютно голый. Одежда его была раскидана по хижине и даже вокруг нее, а на теле обнаружились глубокие царапины и даже следы зубов, возможно, лисьих. Вот это зажгли они вчера! Самой Лапсы в поле видимости не было – наверное, обернулась лисицей и убежала в лес, мышковать. Зато лисицы ее спали вокруг хижины – охраняли. Крепко спали и спутники Мечеслава – должно быть, их тоже чем-то усыпили.
Возле хижины он нашел большую, выдолбленную из дубового ствола корчагу с водой, напился – его мучила жажда – умылся и привел себя в порядок. Подвигался, разминая мышцы, и разбудил своих провожатых – те тоже просыпались в слегка очумелом состоянии. Никто не помнил, как уснул, и что тут вообще творилось ночью. Лисы опасные звери! Как только спутники Мечеслава пришли в себя, они тут же уставились на него не без некоторого удивления, смешанного с ужасом.
– У меня что – рога на лбу выросли? – вопросил он наконец.
– Здесь, на лбу, – говоривший показал на свой лоб над переносицей.
Черт, в тринадцатом веке до нашей эры еще не изобрели зеркал! И посмотреть-то негде было. Мечеслав дотронулся до лба над переносицей подушечками пальцев и почувствовал, что там действительно что-то есть, типа небольшого нароста. Мечеслав потер это место рукой – нарост на коже никуда не делся. Странно.
– А какого оно цвета?
– Похоже на кровь. Или на клюквенный сок.
Всё краше и краше! Мечеслав вернулся к корчаге и посмотрелся в воду. На лбу красовалась бордовая капля, будто темная кровь стекала со лба вниз, к переносице. Мечеслав попытался смыть ее – но не тут-то было, «украшение» не смывалось и не отскабливалось. Ну, Лапса! Это, определенно, была ее работа!
Мечеслав, конечно, знал, что такие штуки любят в Индии. Женщины там рисуют себе красные точки на лбу, что-то типа «третьего глаза» – называлось это бинди. Мужчины тоже рисовали себе подобное – называлось оно тилаком – но делалось это достаточно редко. В основном украшали таким образом свой лоб последователи разных религиозных течений, шиваиты или шакты. Но причем тут поклонники доарийской богини-матери Шакти и, извините, Мекленбургское поозерье эпохи бронзы? Всё это требовало прояснения. Его новое «украшение» особого беспокойства Мечеславу не доставляло, хотя люди, конечно, косились на его лоб.
Лапса все-таки явилась еще раз, когда они шли к опушке, где оставили коней. Она буквально материализовалась из влажного утреннего тумана в зарослях папоротника возле тропы. Всё в ней было прежним, только на груди, на кожаном шнурке, красовался княжий дар – бронзовый знак Сварожий.
– Лесные духи помогут тебе, где бы ты ни был! – сказала она, подняв правую руку вверх. – А кнезу передай, что победу он одержит – и не одержит. Эрбинов нельзя победить, если только не… Кнеза береги, не сторожится он, на беду наскочит. Ежли что с ним стрясется – вези ко мне, помогу.
Сказала – и исчезла в пушистых ветвях молодых сосен, блестящих от росы. Многие вопросы остались без ответов.
* * *
Путь назад всегда короче. На душе было тревожно. Война и всё, что с ней связано – что в тринадцатом веке до нашей эры, что в двадцать первом веке эры нашей – это всегда страшно и жестоко. Но когда на тебя уже напали, поздно топить за мир – в этом состояла ошибка большинства миротворцев. Да и было во всем этом что-то… нелогичное что ли? Это слово не отражало всего спектра ощущений. Творилась натуральная чертовщина. Напавшие на славных людей соседние племена оказались чуть ли не отродьем сатаны. Умудренный опытом кнез почему-то ждал ответ не от своих ближних людей, боляр и бывалых воинов, а от какой-то лесной ведьмы. Она же, в свою очередь, все эти ответы знала заранее, плюс к тому чуть не рассекретила самого Мечеслава – а может все-таки рассекретила? Или ему просто показалось?
С эрбинами же вышла вот какая штука. Андрей Сергеевич понял это совсем недавно – почему он прежде не обращал внимания на этот факт? Эрбинами на научном сленге называли носителей гаплогруппы R1b. Первым это придумал сделать Анатолий Клёсов. Личностью он был весьма интересной: родился еще в Советском Союзе, изначально был биохимиком, специалистом в области полимеров, по слухам, хорошим. Потом уехал в США и…
…заделался антропологом. Создал новую науку – ДНК-генеалогию и активно занялся написанием книг и формированием пула сторонников. Кто только не подверг его научные методики критике! – вполне, кстати, справедливой. И историки, и антропологи, и этнологи, и генетики, и лингвисты. Среди главных обвинений фигурировало то, что Клёсов перепутал термин «гаплогруппа» из биологии с термином «род» – из социологии, что привело к отождествлению, например, гаплогруппы R1a с ариями и славянами. Клёсова обвинили также в популизме – на это, по мнению критиков, указывала упаковка его теорий в модную псевдонаучную форму, привлекательную для обывателя, из-за чего автору теории приписали чуть ли не нацизм.
Короче, вся отечественная наука выступила единым фронтом, а ДНК-генеалогия вообще была объявлена лженаукой. Правда, лженауками когда-то считались… сложно сказать, какие науки когда-то не считались ложными и общественно опасными. И генетика, и кибернетика. В Средние века крайне рисковано было заниматься астрономией и медициной, в Европе и Америке начала двадцать первого века – историей и гендерологией. Так что дружное осуждение в научной среде далеко не всегда означало, что теория плоха – иногда никудышним было само состояние науки.
Уничтожительной критике подверглось и участие Клёсова в развлекательном фильме Задорнова, где он критиковал так называемую норманнскую теорию. Оно бы и ладно, мало ли кто в каком шоу участвовал, но впоследствии более свежие данные, полученные, в том числе, с использованием методов исторического эксперимента, от норманской теории не оставили камня на камне, однако же уважаемых ученых-норманнистов остракизму в связи с этим никто не подверг. Зато не историкам ДНК-генеалогия нравилась – люди охотно платили деньги за участие в работе клёсовского университета, читали и активно комментировали статьи в его журналах, так что, с точки зрения популяризаторства науки, у Клёсова можно было поучиться.
Сам Андрей Сергеевич к ДНК-генеалогии относился прохладно. Не все концы сходились с концами в клёсовских выкладках об арьях-славянах и вообще… Андрей Сергеевич и в свои труды старался не включать Клёсова, даже в виде ссылок. В обосновании к «Толлензе» его точно не было – это зарубило бы весь проект. Но вот ведь штука: ДНК-генеалогию критиковали все, кому не лень – как наука она и впрямь была слабовата – но вот представителей гаплогруппы R1b все почему-то дружно называли именно эрбинами, по латинским буквам R и b. Но каково же было удивление Андрея Сергеевича, когда, оказавшись в рамках исторического эксперимента в тринадцатом веке до нашей эры, он вдруг обнаружил там самых что ни на есть эрбинов, причем с тем же самым названием. Но какие, какие гаплогруппы могли быть в это время?! Почему эти дикари обозвали себя именно так, а не как все нормальные люди – славными, настоящими… просто людьми, наконец?
Тут Андрею Сергееичу пришло в голову, что и гаплогруппа R1a тоже может быть истолкована аналогичным образом, только наоборот. Самоназванием этой группы считались «арьи», то есть латинские буквы R и a, только поставленные в обратном порядке – a и R. Вот оно что! Кто-то уже раскрутил солнце в обратном направлении, причем довольно давно. Эта мысль была сродни научному открытию, она грела и ласкала предчувствием настоящего прорыва. Кто-то – а вся описанная схема напрочь исключала самоназвание народов – внедрил современные Андрею Сергеевичу неофициальные названия гаплогрупп в жизнь их представителей в какие-то очень древние времена. Может, это результат некоего неудачного исторического эксперимента? И вообще – кто, когда и с какой целью мог проводить такие эксперименты? Сплошные вопросы без ответов…
От этого Андрея бросало в холодный пот. Обычно для решения проблем используются те или иные методики. Но любой прикладной системный аналитик вам скажет, что, решая конкретную проблему, эти методики в девяноста процентах случаев создают новую. Так же было и с историческим экспериментом: позволяя перенестись ученым в другие эпохи для уточнения тех или иных неисследованных фактов, они одновременно открывали двери для возможных ошибок и даже преступлений. И как было теперь отделить котлеты от мух, то есть настоящие исторические факты от искусственно внедренных недобросовестными «экспериментаторами»? Сколько сил было потрачено на очистку науки от какой-нибудь лысенковщины, от нацистских расовых теорий, от древних укров, выкопавших Черное море, и «фактов» посещения американцами Луны в шестидесятых годах двадцатого века. Но как теперь очистить научное здание от эрбинов – если подтвердится версия их умышленного внедрения в исторический процесс? Как теперь вообще верифицировать известные исторические факты, если можно отправиться в прошлое и сфальсифицировать их?
Воистину, история, несмотря на все достижения, по-прежнему оставалась мало предсказуемой и в известной мере спекулятивной наукой. Если вообще наукой…
С такими мыслями ковач Мечеслав подъехал к стольному гарду.
* * *
Зверин напоминал разбуженный улей. На окрестных лугах, где еще недавно мирно паслись коровы, стояли лагерем воины племени рарогов, которых много уже собралось под стенами гарда. Кто-то сидел у костра, кто-то спал, завернувшись в плащ, а кто-то занимался обычным воинским делом – чистил доспех, точил камнем лезвие топора, прилаживал оперение к стреле. Повсюду стоял гомон, ржали кони, дым поднимался в небо. Неизбежные признаки приближающейся войны…
Пока Мечеслав шел к детинцу, он встретил несколько знакомых и от них узнал новость – племя укрян с берегов реки Укры отказалось идти на войну с эрбинами. И в том тоже не было ничего нового – укряне давно уже не слали кнезу дары свои, и на игрищах их не видали. Вот оно как, значит? Не напрасно кнез тревожился. Но то была тревога обычная – такое бывало и ранее, когда многие были званы, да являлись не все.
Кнез пребывал в хоромах своих, и на лице его не было ни тени уныния и сомнений, хотя поводов для них имелось предостаточно.
– Будь здрав, брате мой! О, какой ты красивый стал! – кнез явно имел в виду художества на его лбу.
– Да уж, – хмыкнул Мечеслав.
– Ее метка, дар?
Мечеслав кивнул в ответ.
– Что же поведала тебе вештица?
– Слова лисы подобны туману, что не редкость в тех краях.
– Так ты видал лисиц ее?
– Не только видал, но и слыхал.
– Говорят, что тявканье их подобно смеху лесных духов. Что они завлекают путников в чащу, усыпляют его дивными песнями, а поутру в чаще находят только обглоданные кости…
– Не знаю, – Мечеславу захотелось покраснеть, когда он вспомнил, что творилось ночью в лесной хижине, – меня они отчего-то не съели. Наверное, побоялись твоего гнева, кнезе.
Кнез улыбнулся.
– Что она сказала?
– Она сказала, что черное солнце, которому варги поклоняются, надобно раскрутить в обратную сторону…
– И тогда оно станет солнцем прави?
– Так.
– Что еще?
– Что жрец эрбинов – главная сила, и его просто так не убьешь, не человек он. А далее мутно. Вроде одержишь ты, кнез, победу в рати грядущей – а вроде и нет. И сказала еще, что эрбинов нельзя одолеть…
– Совсем нельзя?
– Вроде можно, но для этого надо сотворить нечто, а что – не сказала.
Мечеслав развел руками. Он, конечно же, не сказал кнезу о том, что Лапса говорила про него самого. Ему об этом знать было незачем. Такая психотехнология называлась «самосбывающимся пророчеством».
– Ты слыхал уже, что у нас тут?
– Про укрян?
– Про них, гнид. Вишь, предали. А ведь как братья с ними были, и в бою, и в пиру…
Видно было, что кнез раздосадован на идейных предшественников генерала Власова из соседнего племени. Наверное, у них тоже были какие-то свои соображения, но кнез даже знать их не желал:
– Мы кормили их с руки! А они, псы подлые! Когда у них была драка с поморянами, мы примирили их. Когда у них случился неурожай, мы дали им зерно. Когда они хотели свободно молиться Сварожичу, мы пускали их в Радогост. Веками жили бок о бок, как братья. А ныне что? Топор в спину? Такое не прощают.
Что было ему ответить? Братья частенько предавали братьев – они занимались этим столько, сколько существовало человечество. Каин предал и убил Авеля. Братья Пандавы сражались не на жизнь, а на смерть, со своими двоюродными братьями Кауравами, причем один из Пандавов, Карна, бился на стороне Кауравов, а сводный брат Кауравов переметнулся в стан Пандавов – археологи говорят, что прообразом этой индийской Санта-Барбары стали войны союзов племен куру и панчалов в северной Индии. И, как правило, результат предательства не стоил того. Потомки Каина перманентно страдали, а в Древней Индии и вовсе началась эра Кали-юги. Братская кровь богам была неугодна. Но она продолжала литься.
– Ты, светлый кнезе, не серчай. Сотворили они Сварожичу неугодное дело. Заплатят за то всем, что есть у них. Таков закон божий. Ярость же наша пусть на поле брани себя покажет.
– Советы твои всегда мудры, брате. Потому и зову тебя, и держу у самого сердца. И так будет впредь. А ныне пойдем, отвечеряем. Нет-нет, отказ не приму.
* * *
В доме кнеза было светло и просторно. Правители во все эпохи жили в условиях, сильно отличающихся от условий жизни простого народа, противопоставление дворцов и хижин началось не вчера. Но если на Ближнем Востоке, в Египте, Месопотамии, на Крите и даже в Древней Греции расслоение между элитой и низами в эпоху бронзы цвело уже махровым цветом, то здесь, в протославянских племенах Европы, оно ощущалось достаточно слабо. Но ощущалось.
Пока многие славные люди жили в полуземлянках, у кнеза в детинце сооружен был большой добротный сруб из просмоленных бревен с внутренними стенками, то есть с несколькими просторными комнатами и даже с подобием мезонина под крышей из дранки. В каждой комнате – скорее их можно было назвать залами – стоял отдельный очаг, который использовали как для приготовления пищи, так и для обогрева, и для других хозяйственных нужд. Над очагами были проделаны дыры в крыше, над которыми установлены дымники – для защиты от дождя, снега и листьев. Под крышей также сделаны были маленькие оконца, которые на зиму затягивались бычьим пузырем.
Вдоль стен стояли деревянные полки, уставленные керамической, деревянной и бронзовой посудой, а также прочими ценными по тем временам вещами. А в главной зале, потолок которой поддерживался мощными колоннами из украшенных резьбой цельных дубовых стволов, стоял могучий стол буквой П – тот самый престол кнеза. Он был так велик, что за ним могло собраться, наверное, человек пятьдесят. Стены в зале украшал внушительный арсенал, которому мог позавидовать любой воин и реконструктор: бронзовые мечи и ножи, топоры, луки со стрелами, сулицы, обтянутые кожей щиты, а также оленьи и турьи рога и другие охотничьи трофеи. Мебель была простой, но добротной. Спали в покоях кнезевых обычно на сдвинутых лавках, застеленных шкурами, зато у самого кнеза с его женой была отдельная спальня. Жилье освещалось светильниками на животном жиру – не очень ярко, коптит и воняет, современному человеку показалось бы, что в зале темновато, но по тем временам такое освещение считалось признаком достатка.
* * *
Они прошли весь дом насквозь и вышли на подобие террасы с задней стороны, над озером. В час заката это место было прекрасно, Мечеслав не отказался бы от такого у себя на давно планируемой даче. Солнце садилось аккурат в темневшую полосу леса на дальнем берегу озера, а вода отражала алевшее в золотых, алых и пурпурных всполохах небо так, что казалось, будто ты присутствуешь на каком-то изысканном световом шоу. Только случались такие шоу тут каждый день, и постановщиком их был не человек, а сама природа. Ну, или Сварожич, кому как больше нравится.
Терраса представляла собой небольшой дворик с земляным полом, часть которого, прилегавшая к дому, была прикрыта легким навесом из камыша. Другую часть дворика занимал небольшой сад, где росли несколько яблонь – ветви их свесились вниз под грузом ароматных плодов с краснымии бочками, вызревавшими к осени. Под яблонями стояли струганные по-простому стол и лавки, за которыми семейство кнезово изволило вечерять. Мечеслава пригласили сесть с ними за стол, испить сыта медового. Это была большая честь. На столе стояли яства изысканные: кулеш, полбяные лепешки, печеная репа, кисель, орехи и свежие ягоды, сейчас как раз был самый сезон.
За гостем ухаживала вторая жена кнеза, Калина. Первая, Умила, как-то быстро состарилась, дочери их выросли и были уже замужем за болярами из окружения кнеза, сама же Умила уединенно жила в своем доме на полуострове у другого берега озера, и редко ее можно было видеть на сборищах. Но кнез не вернул ее семье, положения жены своей не лишил. Обычно он плавал к ней сам, на лодке, если нужда была какая.
Умила была женщиной приятной наружности, даже состарилась она благородно. Но сам кнез не потерял силу, ему нужна была молодая свежая кровь. Нужны были дети, сыновья, которым он передаст престол. И вот появилась красавица Калина – кровь с молоком, пухленькая, но подвижная, волосы цвета соболиного меха, черные брови, широкие скулы, глаза цвета янтаря: преломляя солнечный свет, светились оттенками сухого мха. В просторных одеждах, отороченных беличьим мехом, она напоминала большую пушистую кошку. В роду у нее явно были степняки, но здесь это никого не смущало. Только такая и могла стать кнезу достойной женой. Она родила ему трех детей – двух сыновей и дочь – и явно не собиралась на этом останавливаться.
У Мечеслава сложились с ней хорошие отношения. Как-то кнез прислал его к жене – она просила отлить для праздничных застолий бронзовые кружки с особым узором, чтобы ни у кого такого больше не было. Когда он пришел, Калина месила тесто для хлеба – жены кнезей в те поры сами пекли хлеб и лепешки, варили каши, кормили домочадцев, это была их обязанность. Рядом крутилась ее меньшая. На груди у Калины красовалось приметное ожерелье с крупным куском янтаря в оправе – под цвет глаз, она очень любила эти кусочки ископаемой смолы.
– А дай-ка мне твое ожерелье, – попросил Мечеслав, когда она вытерла руки льняным убрусом.
– Зачем тебе, ковач? – удивилась она.
– Показать кое-что хочу.
– Показать? – переспросила Калина неуверенно.
– Вдруг я чудо сотворить хочу? – парировал Мечеслав.
– Ну, если только чудо… – красавица нехотя сняла украшение.
Мечеслав потер подвеску рукавом своей шерстяной рубахи, будто очищая его.
– Да он чист… – начала было Калина, но осеклась.
Наэлектризованный янтарь, поднесенный к волосам ее дочки, поднял их дыбом. Обе ахнули. Это было действительно чудо! Такое чудо дети учились делать на уроках физики в первом классе, в теме про электричество, – да-да, дети во второй половине двадцать первого века изучали физику, начиная с первого класса, но это супруге кнеза знать было необязательно.
– Да ты колдун, ковач, – сказала она. – Как это у тебя выходит?
– Всё просто. Янтарь – это камень солнца, сварожий камень, – ответил Мечеслав образно, – он и не такое может.
С той поры супруга кнеза относилась к нему со всяческим почтением. А он продолжал при каждой встрече то показывать детям «чудеса», а то и давать ей полезные советы по хозяйству. Как-то по осени, увидев Калину среди берестяных туесков со свежесобранными грибами, он предложил ей вымочить белые грузди и охряные рыжики в родниковой воде целый день. На другой день он заглянул к ней опять и насыпал на дно большой деревянной корчаги немного драгоценной соли, сложил туда грибы слоями, перемежая их травками, которые были тут в ходу – диким чесноком, листьями смороды и мяты, хреном – сверху еще посыпал солью, закрыл спилом дуба и придавил тяжелым камнем. Через месяц грибочки из корчаги стали столь вкусными и хрустящими, что все, кто их испробовал, тут же начинали требовать добавку. Да, соль была ценным продуктом – но грибочки, грибочки! Их теперь делали столько, что они не сходили с кнезова стола. Мечеслав еще дал Калине продегустировать эти грибочки со сметаной, чем окончательно растопил женское сердце.
Семейство кнеза, разумеется, заметило «украшение» у него на лбу, но Бодрич знаком показал им, что так, мол, и надо, и они не задавали лишних вопросов.
– Отведай, ковач, – промолвила учтиво Калина и протянула ему расписную глиняную миску с чем-то студенистым, политым молоком.
Мечеслав поблагодарил ее и зачерпнул из миски деревянной ложкой. Это оказался овсяный кисель, залитый парным молоком, с капелькой меда. Кто бы мог подумать, что это так вкусно! Не отсюда ли пошла присказка про «молочные реки и кисельные берега»?
В процессе поглощения яств с кнезова стола, одним ухом Мечеслав прислушивался, что за ним говорилось.
– Батюшка, а отчего мы воюем с этими эрбинами, если они почти такие, как мы? – задала вдруг вопрос меньша́я дочка, любимица кнеза, Дарёнка.
Этой девчушке с длинными светлыми волосами разрешалось то, что не дозволялось более никому.
– Это когда ж они вдруг стали, как мы? – усмехнулся в усы кнез.
– А тогда, – девчушка нахохлилась и принялась объяснять. – Маму мы называем мамой, а они – матером. Папу – патером. Дочь – дотером. Сын у них – сон. Брат – браутер. Молоко – млеко. Ведь это очень похоже на то, как мы говорим! И ликом они на нас похожи, не черные и не косоглазые…
– Дарёна, Дарёна… – пыталась остановить ее мать.
– Пусть продолжает. Откуда она только набралась такого?
– Это мне дядя Мечеслав сказал.
Калина вздохнула. Кнез поднял глаза к небу.
– Так выходит, что наш и ихний языки – похожи? – не унималась Дарёнка.
– Выходит, что так, – молвил ее отец. И отшутился: – Умна ты не по годам, пора уж замуж выдавать.
– Но схожие языки ведь только у родичей. Как же оказалось, что мы с ними воюем?
Кнез откашлялся в кулак и ответил ей:
– Да, они походят на нас. Если нас поставить рядом, то и не отличишь, кто где. Лица у них не черны – но черны их души. Потому – надобно воевать, покуда можешь держать меч в руке. А не ждать, что в темных родство проснется и они вспомнят заветы Сварожьи. Мы для них – не люди, а они для нас – не́люди.



