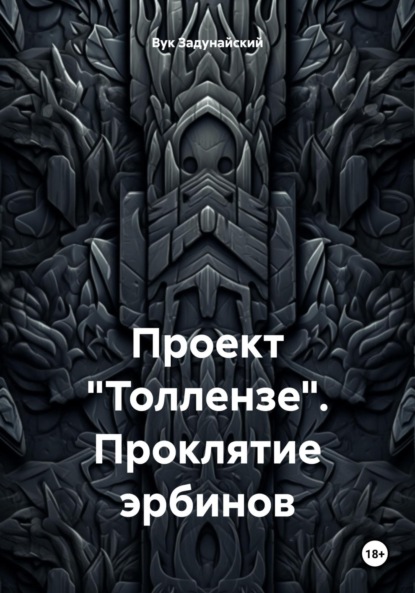
Полная версия:
Проект «Толлензе». Проклятие эрбинов
* * *
В Зверине на берегу одноименного озера стоял стол кнеза рарогов. Место для гарда идеальное: подобраться варгам к нему было крайне сложно, так как раскинулся он на островах и полуостровах большого озера, входившего в целую систему соединенных реками и проливами водоемов, названную впоследствии Мекленбургским поозерьем. Здесь было много воды, песчаных отмелей, ледниковых валунов и сосновых лесов. По берегам водилось немало всякого зверья – отсюда и название гарда, а сами озера были богаты рыбой. По перелескам вокруг бродили стада зубров и туров, благородных оленей и кабанов. В борах коврами стелились ягодники и в изобилии произрастали грибы и орехи. Вокруг селений славных людей распахивались поля, на которых по системе двуполья выращивали ячмень, рожь и овес. Пшеница тут росла хуже, ее везли от лужичан, что жили южнее. На заливных лугах паслись коровы – как и в Индии, здесь они считались практически священными животными, поэтому животноводство было в основном молочным. Люди держали также лошадей, овец и коз, в каждом дворе в загородках хрюкали свиньи.
Гард представлял собой группу поселений на испещренных мысами, заливами и полуостровами озерных берегах. Детинец стоял на большом острове, попасть на который можно было по деревянному мосту, перекинутому между укрепленными валунами берегами – при необходимости мост быстро разбирали. Сам детинец был традиционным для славян и шире – индоевропейцев, такие встречались повсюду, от Германии до Уральских степей. Построили его по единой схеме, которой придерживались наши предки при строительстве Аркаима и древнерусских городищ: частично насыпной холм, укрепленный деревянными клетями с землей, смешанной с глиной; стены из просмоленных дубовых бревен. Пространство внутри организовано по радиально-кольцевой системе, в несколько ярусов: улицы шли по кругу, на них выходили ворота ячеек-домов, а их дальние от входа стены являлись внешними стенами городища. Внутри получившихся, таким образом, больших домов устраивали по несколько очагов, там жили не только люди, но и домашние животные – как правило, в отгороженной, ближней к входу части дома. И так на каждом ярусе. Мостовые были деревянными, под ними пряталась ливнёвка. Центральная часть детинца, где расположены были хоромы кнеза, также имела концентрическую форму, в центре располагалась площадь, которая использовалась для разных целей: тут собирался народ на сходы, здесь воины приветствовали кнеза перед походами, сюда выводили коней.
По берегам озера широко раскинулся посад, тут люди ставили себе, кто во что горазд: позажиточнее – пятистенный сруб, а победнее – полуземлянку с дерновой крышей. И каждый хозяин норовил поставить на крыше пусть маленький, но конек – перекрещенные резные головы лошадей. По озеру постоянно курсировали туда-сюда долбенки-однодеревки, здесь это было главное средство передвижения.
Так что предварительные итоги проекта «Толлензе» уже посрамили тех, кто считал, что в тринадцатом столетии до нашей эры праславяне жили в лесу, молясь колесу. Реальность, конечно, не была похожа на картины Всеволода Иванова, с многоэтажными роскошными теремами и караванами навьюченных грузами мамонтов, но выглядела вполне прилично.
* * *
После дугодневицы кнез пребывал в своих хоромах, повсюду сновали посыльные, в воздухе ощущалась напряженность. Ковача Мечеслава к кнезу гриди допускали беспрепятственно, тут его знали и слушали советы. Кнез Бодрич был неглуп(,) даже по меркам двадцать первого века, а уж по меркам своего времени…
– А, се ты, брате мой! – такими словами встретил он Мечеслава и трижды расцеловал, по старому обычаю. – Вишь, напали-таки на нас, проклятые! Богов они совсем не чтут, в священную дугодневицу мерзости творят, покарай их Сварожич до десятого колена!
– Светлый кнезе, – начал Мечеслав свою речь принятым тут обращением. – Они выкормыши Чернобога, он их и подстрекает извращать всё, до чего дотянутся, и в самый светлый день самое темное свершать. Удивляться ли тому?
Мечеслав достаточно быстро овладел местным наречием. Удивительно, но язык за без малого три с половиной тысячи лет мало изменился. Язык славных людей интуитивно воспринимался как диалект русского, поэтому человек из будущего начинал уверенно болтать на протославянском за пару-тройку месяцев. А свой легкий акцент Мечеслав объяснил тем, что сам он родом из мильчан, далеко на юге.
– Прав ты, брате, во всём прав, – ответствовал кнез. – Кабы дело касалось только происков варгов, я б и сомнений не ведал. Но то, что они в канун дугодневицы напали… И прочее всё… Мнится мне в том колдовство черное, а в чем оно – уразуметь не могу.
– Так может сходить к волхвам сварожьим, в Радогост. Требы положить. Так волю богов и вызнаешь.
– Нет, брате, не понял ты. Воля их мне известна – бить варгов, как это делали отец мой и отец отца. Тут никаких треб не надобно. Они уже принесены, и Сварожич повелел нам взять оружие в руки. Я об ином. Ежли всё это козни Чернобога, то надобно в том разобраться. А то ляжет на нас всех порча…
– Да кто ж тебе про то скажет, светлый кнезе? Даже я совет дать не смогу, не ворожея, чай.
– Ты не сможешь. Боляре мои не смогут. Даже волхвы не смогут. Но есть те, кто сможет. Живет в лесах неподалеку от Любицы, у моря, вештица одна. Она про древнее темное колдовство всё ведает…
Мечеслав удачно изобразил удивление:
– Светлый кнезе хочет обратиться к вештице?
Помрачнел Бодрич.
– Я, брате, к любому обращусь ныне, ежли поможет мне оно врага одолеть. Понял ли ты слова мои?
Сказал так кнезе и заглянул в глаза Мечеслава. Да так заглянул, что у любого бы душа ушла в пятки. У любого, но не у историка-экспериментатора из двадцать первого века. Тот ответил кнезу открытым взглядом, не опускал лица, не отводил глаз – пусть этот взгляд тоже видят в Центре управления экспериментом.
Усмехнулся вождь рарогов.
– Вот за то люб ты мне, брате, что не прячешь ты ничего за пазухой, прав твой путь.
Мечеслав мог выдыхать. Штирлиц из него удался на славу. Ну, не совсем, конечно, Штирлиц, находился он не в стане врага, а внутри изучаемого объекта, но вписался он в этот объект, как видно, неплохо.
– Так сходишь к вештице той? – снова спросил его кнез.
И вопрос сей тихий не подразумевал отказа.
– Схожу, светлый кнезе, конечно схожу. Ежли потребно то для дела правого, то всё сделаю. Только что мне у нее просить?
– Слыхал я про нее, что колдовать она может, и черное солнце светит ей в глаза, но не ослепляет. А еще молва про нее идет, что грядущее прозревает она не хуже прожитого.
«Так оно и бывает обычно: для тех, кто знает прошлое, будущее не тайна, – подумал Мечеслав. – В этом как раз и состоит мастерство настоящего историка».
– Иди к ней, – продолжал кнез, – дай ей этот знак. Тебе ли не признать его, раз ты сам его сотворил!
Протянул ему кнез на ладони хорошо знакомый Мечеславу знак Сварожича, из бронзы выплавленный. Он представлял собой квадрат с вписанными в него крест-накрест остроугольными эллипсами. Взгляд терялся в переплетении линий его, ибо казалось, что они не имеют начала и конца.
– Да разузнай между делом, что молвит она про эрбинов, про исток силы их да про то, куда всё идет. Окажешь мне услугу – век не запамятую.
– Я сделаю все, светлый кнезе, – поклонился Мечеслав учтиво, – и привезу тебе слова ее, до последнего. Но не за награду. За дело правое стараюсь.
– Иди, брате, за пять дней обернешься. Не медли. А я дам тебе лучшего коня и людей надежных. Сварожич да пребудет с тобой!
* * *
В пути у Мечеслава было время обдумать ситуацию. Правда, езда на коне в тринадцатом веке до нашей эры была тем еще удовольствием. Конь – а они тут все были потомками степных лошадей, невысокие, но мощные, шерстистые и неприхотливые, правда, с ужасным характером – управлялся при помощи простейшей уздечки с бронзовым грызлом и хлыста. Ни седел, ни стремян тогда еще не придумали, сидеть приходилось на привязанной к коню бычьей шкуре и сжимать туловище животного ногами. Несмотря на спецкурс, который он прошел еще в рамках подготовки к проекту, Андрей Сергеевич никак не мог приноровиться к этим своенравным животным и частенько падал. Вот и сейчас: он задумался, не заметил, как конь запнулся, и вылетел на землю под смех сопровождавших его воинов. Впрочем, шею он, слава богам, не сломал, на дальнейшем ходе событий сей инцидент никак не отразился.
А мысль его посетила вот какая. Кнез Бодрич не был безусым юнцом или слабовольным правителем. Вот и на сей раз, при получении вести о вторжении эрбинов, кнез не растерялся, не впал в замятню, он был спокоен и собран. И указания кнез давал верные: помимо своей дружины, собрать ополчение всех родов племени рарогов, немедля послать за помощью к соседним племенам – лютичам, лужичанам, поморянам, усилить надзор за Полабьем, делать оружия да брони больше прежнего, укреплять приграничные гарды, строить валы, собирать коней, перегонять стада, запасать продовольствие и фураж. Все решения были правильными и своевременными.
И тут вдруг вся эта магия и Чернобог. Что-то встревожило кнеза – только вот что? Это тоже предстояло выяснить. Да и с вештицей надо было разобраться. Вештица – это была ведьма. Благодаря трудам господ Шпренгера и Инститориса, авторов «Молота ведьм», а также Гоголя и Булгакова, под ведьмами часто подразумевали сексапильных представительниц прекрасной половины человечества с пониженной социальной ответственностью, имевших близкие связи с нечистым и вредящих людям. В праславянской традиции такого не было. Слово «ведьма» имело корень «вед», то есть – знание. Ведьмы знали о мире и о людях более, нежели другие, и само по себе это не было злом. Даже напротив, ведьмы и знахарки пользовались всеобщим уважением, поскольку люди видели приносимую ими пользу.
Жила искомая вештица в лесах у Любицы, неподалеку от морского побережья, в двух днях езды от Зверина в северо-западном направлении. Посланники двигались по узким тропам, вброд переходили небольшие речушки, обходили озера и селения. Приятнее всего было идти по светлым мшистым борам и по краю обрабатываемых полей. В чащах же, оврагах и болотах их спасала еле видная тропка и мастерство спутников Мечеслава, знавших дорогу. В пути он издалека приметил стадо зубров с телятами, очень милыми, но ближе к ним подходить нельзя было, лесные быки в это время подозрительны и опасны. У родника они увидели еще семью кабанов и ждали, пока те напьются. Зверье здесь не били понапрасну, берегли. У пращуров наших было чему поучиться.
Заночевали прямо в лесу, на мху. Благо, было тепло. На закате слушали песни лесных птах, к ночи сменившиеся криками сов. Ели вяленое мясо с лепешками, прижарили на костре собранные возле лагеря грибы – охотиться было некогда – а в золе потом запекли прихваченную с собой репу. Эх, сюда бы картошечки!
Картошка, картошечка! Как же Андрей Сергеевич скучал по ней! В тринадцатом веке до нашей эры, конечно, можно было поесть. Рыба, мясо, молочка – это было во вполне съедобном виде. Были еще ягоды и грибы, каши, лепешки… Андрей Сергеевич знал, на что шел. Отсутствие шоколада, помидоров, котлет, авокадо и ягод годжи не расстраивало его так, как отсутствие ее, картошки. Вместо нее можно было съесть ту же печеную репу, но… заменить картошечку та не могла. Картошка ему периодически даже снилась – то жареная соломкой, с солененькими опятами, то отварная, в мундире, приправленная сливочным маслицем, то нежнейшее, как крем, пюре, пахнущее сливками, то запеченая в золе, которую надо было отряхнуть, соскрести шкурку и посыпать крупной солью. А были ведь еще картофель Пушкин, картофель по-деревенски, картофельная запеканка с мясом, вареники с картошкой и жареным лучком, картофельные клецки с жирной сметаной, драники, картофельные зразы с сыром и теплый салат с картофелем и обжареным беконом. Существовал миллион способов приготовления картошки, и во всех она была хороша. Но увы! – в тринадцатом веке до нашей эры в Европе никакой картошки не было, и это факт. Приходилось терпеть. Ну, или строить корабли и открывать Америку.
Вторую ночь пришлось коротать у могучего дуба, под наскоро сооруженным навесом из шкур, прячась от дождя. Зато наутро они достигли Любицы. Здесь тоже было много озер и речушек, главной из которых считалась впадающая в море Трава. Вдоль ее берегов и впрямь раскинулись заливные луга, на которых паслись коровы. Речка впадала в море в местечке с таким же названием. Оно и теперь было примерно таким же – Травемюнде.
Гард Любица, как здесь принято, тоже стоял на острове, защищенный со всех сторон водой. Здесь было выстроенное по общему правилу городище с посадом. В гарде сидел Любомир, младший брат кнеза Бодрича. Но им к нему не надо было заглядывать, гард они обошли стороной.
Праславяне жили не только и не столько в деревнях, сколько в городищах – гардах по-местному. И их было много! Уже в двадцатом веке специалисты насчитали более семисот на территории Германии. Мечеслав, разъезжая по ковачским и торговым делам, лично наблюдал где-то около сотни. Это было немало для того времени и той местности. Прежде-то считалось, что тут три хибары на сто километров, а оно вона как. История человечества на поверку оказалась более долгой и интересной.
* * *
Искомая вештица обитала в лесной хижине неподалеку от озерца, синевой своей соперничающего с безоблачным небом, среди сосен с причудливо искривленными стволами. Издалека доносился шум прибоя. Прямо курорт! Но здесь даже не это было главным. А то, что вокруг хижины среди деревьев сидели, лежали и бегали туда-сюда десятки лисиц! Мечеслав никогда столько за раз не видел, даже в зоопарке. Все они были разного окраса – ярко-рыжие, коричневатые, цвета обожженной глины, совсем светлые, пепельные, и черные, и серые. Но все были непуганные, нахальные, повышенной пушистости и довольно-таки упитанные. Лисички валялись на мшистой подстилке, вальяжно зевали и путались под ногами. Мечеслав был предупрежден, что наступать на них или еще как-то обижать категорически запрещалось, это разозлило бы лесных духов.
Впрочем, он и не собирался. Обижать такую милоту! Лисы выглядели ручными и неагрессивными. Он наклонился к одной из лежащих рядом лисиц и не удержался, почесал ей бочок. Та не убежала и не попыталась укусить, а, напротив – довольно подставила ему животик и вдруг… засмеялась. Подбежали другие лисы и тоже… принялись подставлять свои брюшки и демонически хохотать. Спутники Мечеслава, не боявшиеся ни варга, ни лютого зверя, застыли, схватившись за обереги. Он тоже ощущал себя немного не в своей тарелке, но страха не было. Лисички были явно какие-то… непростые. Наверное, и вправду трогать их не следовало, но он не мог лишить себя удовольствия и почесать теплые пузики обеими руками.
– Лесные духи приняли тебя! – услышал Мечеслав у себя за спиной низкий, грудной голос.
Он обернулся. Это была вештица! Сколько ей зим минуло – не разобрать, но, судя по всему, женщина не молодая и не старая. У нее были рыжеватые волосы и выразительные глаза. Лицо выкрашено, как у модницы двадцать первого века, – пастой с добавлением извести, глаза и губы ярко обведены черным – наверное, углем. Тело ее, проглядывавшее сквозь темное кожаное одеяние, щедро испещрили татуировки с ветвистым, ни на что не похожим узором. Зато поверх одеяния навешаны были лисьи хвосты, а на голове красовалась лисья шкура с оскаленной пастью. Образ завершали украшения с амулетами из звериных зубов и переливающихся нефритовой зеленью жуков-бронзовок на шее, плечах и груди. Зрелище воистину величественное!
Спутники Мячеслава опустились на колени. Лисицы окружили их, не прекращая смеяться и подтявкивать.
– Это духи леса. Разве они не прекрасны? – спросила вештица.
Мечеслав утвердительно кивнул. Голос у нее был властным и берущим за душу. Такой впору царице какой-нибудь, но обладательница его была всего лишь ведуньей-отшельницей. Ведьмой.
– Ждите здесь, славные люди. А ты заходи, – пригласила красотка в лисьей шкуре, показав ему рукой на хижину. – Зови меня Лапса.
* * *
Вечерело. Туман растекался меж кривых сосновых стволов. Вдалеке вздыхал прибой. Лисицы, судя по всему, остались сторожить спутников Мечеслава, они иногда еще похохатывали во тьме, но уже не хором. А сам он угодил внезапно на вечерю к хозяйке лис. Они сидели на пучках сухих ароматных трав, рассыпанных на земляном полу хижины, у круглого, обложенного камнями очага. Рыжие отблески пламени освещали их лица.
– Возьми, – сказала вештица, назвавшаяся Лапсой, – испей.
Она протянула Мечеславу глиняную чашечку с каким-то пахучим отваром. Инстинкт самосохранения говорил, что пить это нельзя ни в коем случае. Но что-то другое просто настаивало на том, что попробовать надо обязательно, а с ним, как с посланцем кнеза, ничего не случится.
Мечеслав с благодарностью принял из рук ведуньи чашечку и залпом выпил отвар. Рога с копытами у него вроде не выросли, и то хорошо.
– Сам тебя ко мне прислал? – спросила Лапса.
– Да, – кивнул Мечеслав, – он хотел бы…
– Мне ведомо, что он хочет.
Мечеслав поднял бровь. Вештица, даром что жила в глуши, на отшибе, была неплохо информирована.
– Он ничего мне не передал?
– Передал. Вот, – Мечеслав протянул ей на ладони знак Сварожий, блеснувший всполохами огня.
Лапса взяла драгоценную вещь в руки и погладила ее кончиками пальцев, будто чуяла нечто недоступное прочим.
– На этом знаке след твоих рук, – сказала она.
– Ты угадала, я ее выплавил.
– Дай мне свои руки.
Голос звучал так властно, что прекословья не терпел. Мечеслав протянул ей руки, она взяла их, развернула ладонями вверх и провела по ним своими когтями так, что всё тело прошиб озноб. Но этого чертовке было мало – она провела когтем выше, до предплечья, до локтя, а потом и вовсе – до плеча, задрав грубую льняную, похожую на мешковину, ткань рубахи. Озноб прошиб тело вторично, и она, увидев результат, убрала руку. Лицо ее было задумчивым.
– На, испей еще, – протянула она ему другую чашку с варевом, на сей раз темным и густым.
Отказ здесь тоже не предусматривался.
После пятой чашки Мечеслав начал ощущать легкое опьянение. Таки подпоила, ведьма. Общение с такими дамами сулило немало опасностей, но он отчего-то тревоги не ощущал, хотя чуйка обычно его не подводила. Вообще-то он изначально и попал в тринадцатый век, чтобы везде залезть и всё попробовать. Он был подопытным кроликом, такова была его профессия. И общение с разного рода вештицами вполне себе входило в число заданий. Ну а если ему будет грозить настоящая опасность, в Центре примут меры.
– Уважаемая Лапса, да продлятся твои дни, а можно все-таки узнать у тебя, что ты хотела бы ответить кнезу, он ждет ответа, – язык уже заплетался, но Мечеслав, хоть и несколько витиевато, но все-таки старался формулировать свои вопросы.
– С кнезем-то всё ясно, – ответила Лапса. – На его земли напали эрбины. Это сильный противник.
Мечеслав пожал плечами – это и так все знали.
– Славным людям не привыкать сражаться с варгами. Но эти особые, – уточнила Лапса. – Сила их – в черном солнце.
– А одолеть-то их как?
– Чем черное солнце отличается от того, что ты видишь каждый день?
– Ну, черное солнце – это…
– Солнце вращается посолонь, а черное солнце – в обратку, – усмехнулась она. – Наше солнце – это жизнь, их солнце – смерть.
Модель была логичной, рабочей. Но как трансформировать эти откровения в практическую плоскость? И только он хотел спросить про это сидевшую рядом с ним хозяйку лис, как она сама ему ответила – читала мысли, не иначе!
– Кнез Бодрич сильный воин. И немало в землях его других добрых воинов. Но эрбинов им не одолеть.
– Что же нам делать?
– Раскрутите их солнце в обратку. Только так. Вождь их болен и слаб, у эрбинов все вожди таковы. Вся сила – у жрецов. Жреца ищите. В нем вся сила. Но его не убить так просто, не человек это.
– Но как…
– Мне мало дела до всех этих ваших вождей и сражений, – отрезала Лапса. – Кнез спросил – кнез получил ответ. А остальное… Люди так созданы богами, что всегда воюют друг с другом. Всё это старо, как земля и как небо.
В лесу стало совсем темно, даже лисицы внезапно затихли, вместо них стали кричать совы.
– Так что…
Вештица положила руку на губы Мечеслава. От руки пахло травами и чем-то еще, трудно уловимым, от чего хижина поплыла перед глазами.
– Ни слова. Ни слова про кнеза и про эрбинов. Ты…
– Что я?
– Ты важнее их.
– Я…
– Не притворяйся. Я вижу, когда мне лгут.
– Так… эээ….
– Ты отличаешься от тех, кого ко мне кнез прежде слал.
– Надо полагать…
– Ты темный…
Это была правда – у Мечеслава были темные волосы и глаза, да и кожа могла похвастаться загаром.
– Я ковач, кожа моя темна от жара печного.
Вештица в ответ хмыкнула. Мечеслав не знал, что и думать. Лесная ведунья оказалась проницательнее всех встреченных здесь, в этом времени, людей, раз что-то заподозрила. Очевидно, сейчас требовалось отвлечь ее внимание.
– Вижу я, – продолжила она, приподняв рукой его подбородок, – что ты не тот, за кого себя выдаешь.
Мечеслав улыбнулся:
– И кто же я?
Тут пришел черед вештицы засмеяться. И вдруг ррраз! – она схватила Мечеслава за плечи и лизнула ему шею до самого уха. Сказать, что он обалдел – это ничего не сказать.
* * *
Андрей Сергеевич Ковальчук не уделял много внимания романтической стороне жизни. Проблем в общении с противоположным полом у него не было, но долговременные отношения не клеились. Девушки были капризны и требовательны, под них всегда надо подстраиваться и постоянно ощущать, что ты должен соответствовать высоким (вернее, завышенным) ожиданиям, а тебе не должен никто и ничего. А еще девушки постоянно проявляли характер. Андрей его тоже проявлял. На самом деле, он отдавал себе отчет в том, что всё это отговорки, а настоящих причин нежелания создавать долговременный союз было две: первая – ему самому брак и семья были не очень-то и нужны, а вторая – с подавляющим большинством современных девушек ему было банально… скучно. То есть не о чем поговорить. Как оказалось, именно это и было главным в отношениях, а не цвет волос, форма и размер груди и длина ног.
Что касается проекта «Толлензе», то тут у него были задачи, не подразумевавшие серьезных отношений. Хотя сами по себе контакты с противоположным полом не запрещались инструкциями – все взрослые люди и всё понимают. Поэтому он организовывал свою личную жизнь, как мог и как хотел. В помощь ему были игрища и вот это вот всё – цветущий папоротник, веночки, прыжки через костер и гадания. Отчего-то принято считать, что предки наши блюли целомудрие и жили исключительно в рамках партиархальной семьи. Это и так, и не так. Девушка, потерявшая девственность на дугодневицу и даже принесшая после этого, не считалась порченой, напротив – ее будущий супруг мог убедиться, что она здорова и может рожать потомство. В бронзовом веке такие девушки пользовались повышенным спросом на брачном рынке. Порчеными считались те, кто не мог родить.
Но тут намечался совершенно особый случай. То самое предложение, от которого нельзя отказаться. Столь экзотических дам Андрей еще в объятиях не держал, это был аргумент за. Да и выпитое зелье ударило в голову и разогнало сомнения. А почему бы, собственно, и нет? Единственное – во всем надо было проявлять разумность и осторожность. Только вот попробуй тут!
Вештица внезапно резво вскочила на него, оседлала, сжала своими сильными ногами – наверное, чтоб не убежал – и далее началось такое, что могло бы заставить краснеть операторов Центра управления экспериментами. Но Мечеславу это даже нравилось, адреналин играл вовсю. Чтобы не превращать эпизод в материалы к суперпопулярному эротическому видеоотчету, Мечеслав закрыл глаза, отключая, таким образом, встроенные в хрусталики основные камеры. После этого автоматически включалась «ночная» камера на его плетеном очелье, замаскированная под стеклянную бусину, которая транслировала всё происходящее в Центр. Но и ее можно было отключить в ручном режиме, повернув незаметный рычажок на бронзовой бляшке, вставленной в то же очелье, что он незаметно и сделал.
Лапса была дамой, судя по всему, опытной, она возвышалась над ним и сама контролировала процесс. Он чувствовал, как что-то мягкое и пушистое щекочет его обнаженную кожу (и когда только успела стянуть рубаху?) – должно быть, украшавшие Лапсу лисьи хвосты. Или вештица перекинулась в лису, и у нее отросла звериная шерсть? Он этого не видел, но попытался представить и…
Дальнейшее было неописуемо. Он не ожидал такого от нее и еще меньше ожидал от себя. Когда сознание милостиво оставило Мечеслава, в его горячих видениях – собственно, это были не совсем и видения – фигурировали оскаленная лисья морда, щекотавшие кожу хвосты и тяжесть тела, выпивающего его душу. Раскачивались амулеты из костей и зубов, горели нечеловеческим огнем зеленоватые глаза, а рот, хищный и чувственный, ухмылялся, впиваясь в свою добычу.



