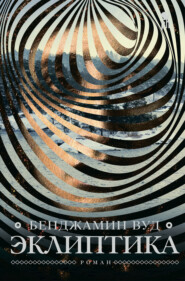скачать книгу бесплатно
Лишь на первой остановке – пристани Кадыкёй – расстегнете вы застежку на часах: пускай скользнут меж досок скамейки, будто вы их потеряли. Лишь проплывая мимо первого странного острова, оцените вы, как далеко оказались от мира, который знали, от людей, которых любили и не любили. Лишь миновав следующие два острова (один – широкий и необитаемый, другой – скудная полоска зелени, где живут, похоже, одни цапли), осознаете вы, как близко подобрались к тому, что вам необходимо. Лишь тогда увидите вы армейско-зеленый горб Хейбелиады, вздымающийся в солнечной дымке, и поймете, что вы у цели.
Лишь тогда вместе с укачанными туристами спуститесь вы на нижнюю палубу и, когда паромщик перекинет ветхий канат на причал, сойдете на берег, странным образом чувствуя, что вы почти дома. Лишь тогда, обогнув плац военно-морской академии, где занимаются строевой подготовкой курсанты в форме, пойдете вы на юго-восток, как вас учили, и будете двигаться по улице Чам-лиманы-ёлу, пока дороги не станут ?же, безлюднее, а редкие домишки не уступят место лесу. Лишь тогда сможете вы затеряться среди сухих, наклонившихся сосен, чувствуя, что отныне избавлены от всех тягостей. Лишь тогда увидите вы плечи потемневшего от времени особняка над макушками деревьев. Лишь у его ворот бросите вы на землю рюкзак, нажмете на кнопку звонка и будете наблюдать, как по тропинке спускается подслеповатый турок с седыми усами и ружьем, чтобы спросить через прутья, кто вы. Лишь тогда сможете вы назваться другим человеком. Лишь тогда старик спросит у вас пароль, а вы – выпустите эти слова на волю и, произнеся их, лучше поймете их смысл. Лишь тогда откроются ворота и впустят вас, движимые рукой старика. Лишь тогда скажет он: Portmantle’ye hosgeldiniz[7 - Добро пожаловать в Портмантл (тур.).].
3
Когда мальчик в первой же партии разбил Петтифера наголову, мы хором воскликнули “новичкам везет”, но потом они сыграли еще две, каждая чуть быстрее предыдущей, и стало ясно, что юный Фуллертон – блестящий тактик. Он выиграл у Петтифера целую гору сокровищ: стакан для чая, заводную черепашку из камфорного дерева, плетеный кожаный ремень; а я, поскольку ставила на Тифа, вынуждена была расстаться с последней упаковкой коричной жвачки. Мы полагали, что Куикмен, игрок более проницательный, опытный и агрессивный, окажется Фуллертону не по зубам, но мальчик обыграл его во всех партиях, причем с большим перевесом. По сути, никакого соревнования и не было. Когда с Куикменом было покончено, мальчик прибавил к своим трофеям перьевую ручку, римскую монету и серебряную зажигалку с выцветшими инициалами, доставшуюся Куикмену от отца. (Тиф, поставивший против Кью, вернул свои мокасины, а я выиграла у Мак кофейные зерна, но решила, что как-то несправедливо забирать их в ее отсутствие.)
– Нас одурачили, – сказал Куикмен, глядя на оставшиеся на доске шашки. – Тот последний ход, когда ты сбил мою фишку и спрятал от удара свою, был как на турнире мастеров. Да ты небось региональный чемпион. Или, может, чемпион страны?
Мальчик широко улыбнулся.
– Клянусь, я и играть-то толком не умею.
– Рассказывай кому-нибудь другому.
– Мне просто повезло. Кости удачно выпали.
– Ерунда. В жизни не видел столько блоков. Это была стратегия.
– Вот-вот, – вставил Петтифер. – И очень эффективная.
Мальчик ни в чем не признавался.
– Вам виднее.
– Надо мне к следующему разу поработать над тактикой, – сказал Куикмен.
– Вряд ли вам это поможет.
Было непонятно, всерьез он это или просто красуется. Мальчик встал, снял со спинки стула ветровку и подошел к моей стене с образцами. Лампы дневного света так ярко освещали комнату, что глазам представало лишь скопление белых лоскутков – коллаж из квадратиков холста, расположенных в порядке, понятном мне одной. Их было не меньше сотни, и на каждом – мазок белой краски, едва различимый на белом же полотне. Фуллертон подошел поближе, пытаясь разобрать карандашные пометки на полях.
– Над чем вы работаете, Нелл? – невинно поинтересовался он. – Дайте-ка угадаю: это связано с белым?
Петтифер прищелкнул языком.
– Переступаешь черту.
– Ничего, – сказала я.
– Нет, ну послушай, он же должен быть в курсе.
– У нас тут не принято вмешиваться в чужую работу, – укоризненно сказал Куикмен.
Фуллертон примирительно вскинул руки:
– Господи! Ну извините. Больше не буду.
– Это заготовки для панно, – сказала я. – Больше вам пока знать не положено.
– А давить на нее мы не вправе, – добавил Куикмен.
Мальчик все еще рассматривал стену.
– Неужели вам никогда не хотелось посоветоваться друг с другом? Ради взгляда со стороны?
Я уже почти привыкла разговаривать с его спиной.
– Бывало. Но тогда я писала бы не для себя. А писать нужно только так.
Куикмен одной рукой собирал шашки, яростно стуча ими об доску. Судя по его резкому тону, он еще не оправился от проигрыша:
– Здесь тебе не школа искусств. Если ты приехал за советами, то обратился не по адресу.
Фуллертон обернулся и засучил рукава.
– Да нет. Я человек скрытный. – На левом запястье у него остался бледный круг от часов. – Я здесь, чтобы кое-что доделать. Не буду утомлять вас подробностями.
– Я видела у тебя в мастерской гитару, – сказала я. – Давно у нас тут не было музыкантов.
– Ой, я бы не назвал себя музыкантом.
– А кто ты тогда?
Он отошел от стены на пару шагов и прищурился.
– Жаклин Дюпре – вот она музыкант, настоящий; Гленн Гульд, Майлз Дэвис[8 - Виртуозные музыканты XX в.: Жаклин Дюпре – британская виолончелистка; Гленн Гульд – канадский пианист, органист и композитор; Майлз Дэвис – американский джазовый музыкант, игравший на трубе.]. Я могу под настроение выдать какой-нибудь фолк. Но в последнее время настроения что-то нету.
Петтифер встал:
– Тебя послушать, так все очень просто.
– Уверен, все далеко не так просто, как он описывает, – сказал Куикмен. – Иначе его бы здесь не было.
Мальчик слабо улыбнулся:
– Остановите меня, если я слишком уж разоткровенничался.
– Мне всегда хотелось освоить какой-нибудь инструмент, – сказала я. – Но не идет, и все тут. Это как с нардами.
В детстве я частенько вынимала из футляра мамину гармонь и пыталась извлечь из нее какую-нибудь мелодию, но та лишь жалобно хрипела.
– Я учился сам, по книжке с картинками, – сказал мальчик. – Там ничего сложного.
Куикмен сложил доску и сунул ее под мышку.
– Последний музыкант, который здесь был, всю ночь играл на своей сраной флейте. Ощущение было, будто у тебя под крышей свили гнездо соловьи. Я был вот настолько близок к тому, чтобы его придушить.
– Тогда я лучше буду потише.
– Уж постарайся, коли тебе дорога жизнь.
Мальчик ничего не ответил. Чуть наклонившись, он снова разглядывал мои образцы.
– Знаете, Нелл, есть в этой стене что-то умиротворяющее. Хоть чужое мнение вам и безразлично.
– Пока это только наметки. Но спасибо.
Хотя слово “умиротворяющее” было произнесено с явным восхищением, я не стала уточнять, что он имел в виду.
Обойдя мольберт, он подошел к моему рабочему столу и принялся копаться в груде инструментов: взял мастихин, стал рассматривать засохшую краску на лезвии.
– Эй! Руки! – воскликнул Петтифер.
– Простите.
Вернув мастихин на место, он отошел подальше.
– Ты не подумай, что мы придираемся, – сказала я. – Просто у нас тут свои порядки, и мы к ним привыкли.
На самом деле я бы и глазом не моргнула, если бы он опрокинул мой стол, разломал его и попрыгал на досках. Там не было ничего ценного, лишь налет затянувшегося на годы проекта: мутный скипидар в банках из-под консервированных персиков; засыхающие в тюбиках масляные краски; ветошки и палитры в разноцветных сгустках; кисточки в банках с серой водой, точно забытые цветы. Такие обыденные вещи ничего для меня не значили. Я хранила их, потому что некуда было девать, а еще как напоминание о пределах своих возможностей. Моя настоящая работа была связана с образцами на стене, и я скорее отрубила бы ему руку, чем позволила к ним притронуться. Но он и не пытался.
Мальчик застегнул ветровку. Карманы топорщились от трофеев.
– Ладно, пойду баиньки. Спасибо за игру. Я уж думал, что все ходы позабыл.
– Я так и знал! – Куикмен повалился в кресло. – Одурачил нас.
– Вот те на. Значит, ты все-таки профи? – спросил Петтифер.
– Ну, может, я и участвовал в паре-тройке турниров. Подпольных, так сказать.
– На деньги?
– Не вижу смысла играть иначе.
– Видел я эти подпольные клубы, – сказал Куикмен. – Такого мальца туда бы ни за что не пустили.
– В тех местах, о которых я говорю, возраст не проверяют. Нетрудно найти игру с реальными ставками, скажем, на Грин-лейнс – вы видели, сколько там киприотов? Если понаблюдать за ними, можно кое-чему научиться. После пары рюмок они готовы всю ночь обсуждать стратегию.
В его манере – голова набок и чуть опущена – было что-то неубедительное. Я просто не могла представить, как он спускает карманные деньги в грязном лондонском кабаке с толпой киприотов. Он плел небылицу. Куикмен, очевидно, подумал то же самое. Погладив бороду, он с сомнением произнес:
– Грин-лейнс, говоришь?
– Ага. – Мальчик ухмыльнулся и надел капюшон. – Спасибо за жвачку, Нелл. Как-нибудь вы обязательно ее отыграете. – Он дернул дверь на себя. – Всем сладких снов.
И ушел.
Куикмен подождал, пока шаги мальчика стихнут, затем встал и застегнул пуговицы на полушубке.
– Какой-то он подозрительный, этот парень. Не знаю, стоит ли его сюда приглашать.
– Ты скуксился из-за того, что он тебя разгромил, – сказал Петтифер.
– Ну ладно, возможно. – Куикмен поднял воротник. Вокруг шеи овчина пообтерлась и засалилась. – Но все равно с ним что-то не так. Или я несправедлив?
– Нет, он и правда странный, – сказала я. – Но ты мне тоже таким поначалу казался.
* * *
Рано было утверждать, что между нами установилась связь, но в поведении мальчика я видела отголоски собственной юности. Примерно в этом возрасте я и начала писать – еще не покинув родительского крова и не имея в глазах общества достаточно жизненного опыта, чтобы считаться авторитетом в чем-либо, кроме нарядов и школьных сплетен. Но уже тогда я знала, что понимаю живопись. К шестнадцати годам я пролистала достаточно альбомов по современному искусству, чтобы научиться различать, где глубина, а где зияющая пустота. И раз уж мои предшественники создали столько банальностей, чего же тогда бояться мне? Их неудачи послужат мне парашютом. Так я и начала: без страха, без сомнений, без ожиданий. Это было в 1953 году.
За пару недель до выпуска, когда мои одноклассницы уже начали искать работу на лето, я пробралась в кабинет рисования в средней школе Клайдбанка и стащила из шкафа масляные краски. Затем выломала пару старых досок из заброшенного сарая и поволокла их домой по Килбоуи-роуд. Распилив и ошкурив доски отцовскими инструментами, я спрятала их за ящик с углем. Удовольствие, тайный умысел так окрыляли, что я не находила себе места. Тем летом я вся отдалась живописи.
На задворках нашего многоквартирного дома, как можно дальше от вонючих помойных ям, я прислонила первую доску к стене. Ее пустота меня не пугала. Я не изучала ее фактуру, не задумывалась, достаточно ли она ровная, хорошо ли загрунтована, не потребуется ли потом покрыть ее лаком. Я просто подошла к доске, как к мальчику, которого решила поцеловать, и, набрав синего фталоцианина, порывисто мазнула по ней маминой кондитерской лопаткой. На моих плечах не громоздилась история, классические источники тяжелыми тучами не висели над моей головой. Одна, без влияния извне, я вольна была слой за слоем накладывать комковатую краденую краску прогибающейся лопаткой, мазюкать пальцами, тыкать кулаками, щипать, шлепать, царапать, скрести. В голову не лезли замечания по технике, потому что я их не приглашала. Я просто двигалась, выражала, жила, орудуя лопаточкой спонтанно, интуитивно. Я пыталась воспроизвести одну сцену, засевшую у меня в голове, что-то из отцовских рассказов про войну, но писать могла только так, как сама ее представляла, а не как было на самом деле. Часы и минуты таяли в воздухе. Вскоре мои руки пропитались цветом, краска пленкой облепила костяшки и забилась под ногти. Немое кино мира – того, другого, внешнего мира, о котором я позабыла, – взорвалось автомобильным ревом и уличным гулом. Соседи ругались в подъезде, выносили совки с золой во двор, гоняли с лестничных клеток мальчишек с футбольными мячами. Спускались ранние сумерки, из окна доносился голос матери, уже вернувшейся с работы. Она меня звала. Тогда я подняла голову и взглянула на законченную работу.
Вот она, подсыхает у стены – полуабстрактная картина, созданная в суматошном порыве. Намек на место, где я не бывала. Брызги дождя. Грифельно-серый, испещренный бомбами океан. Останки литейного завода, разбросанные по небу. Обрушивающийся автомобильный мост или, быть может, стена – и еще столько всего незнакомого, своей уклончивостью выражающего больше, чем я сумела бы облечь в слова.
Когда мама спустилась во двор и увидела картину, она, как по рунам, прочла в ней мое будущее. “Эт еще что? – спросила она. – Эт ты нарисувала?” Она отчитала меня за то, что я потратила весь день на глупую мазню, и велела отмыть ее лучшую кондитерскую лопаточку. Надо проводить время с пользой, у нее для меня куча дел. Но на следующий день я снова писала, и на следующий, и на следующий, и никакие наказания на меня не действовали.
Что же случилось с этим духом с задворок? Когда он меня покинул?
Я всегда мечтала о чем-то большем, чем прожить жизнь своих родителей во всей ее рутинности, но в школе занималась спустя рукава – едва наскребла на проходной балл по английскому и истории, а потому путь в учителя мне был заказан. И все же я не могла довольствоваться работой на фабрике “Зингер” или на складе при пекарне, как предписывал отец. Радость от живописи тормошила меня среди ночи, подтолкнула подать документы в Школу искусств Глазго, внушила мне, что я могу добиться чего угодно, нужно только взяться за ум. Изучив папку с моими работами, секретарь приемной комиссии сказал: “Ваше творчество наивно. Вас тянет к абстракции абстракции ради. Однако в женских картинах редко встретишь такой градус, и к тому же вы еще очень юны. Разумеется, маслом вы начнете писать только на третьем курсе, так что у вас будет время искоренить дурные привычки”. Неделю спустя он написал мне, предлагая стипендию. “Искренне надеемся, что вы согласитесь”, – добавлял он в конце, будто у меня был выбор.
В октябре я уже ходила на лекции по теории цвета и изучала по слайдам канон; делала небрежные наброски овощей на уроках рисования; измеряла карандашом пропорции обнаженных натурщиц в холодных мастерских. Родительский дом остался где-то далеко, а меня не покидал страх, что “градус” моих работ снижают, усредняют чрезмерным оттачиванием техники. На самом деле уроки по основам рисунка и технике старых мастеров лишь распалили мое желание писать. На этих занятиях я совершала самые неожиданные открытия: как обозначить настроение тела одним штрихом карандаша “Конте”, как обогатить повествование через композиционные решения. Дух с задворок выжил во всех работах, которые я сделала в тот период, хоть мои ранние учителя его и не поощряли.
Расправить крылья мне удалось на кафедре монументальной живописи, под руководством Генри Холдена. Меня вдохновляли великие традиции настенной росписи от первобытных наскальных рисунков в пещере Ласко, мозаик в равеннских и византийских церквях, фресок Джотто, Тинторетто, Микеланджело и Делакруа до политических пасьянсов Диего Риверы. На семинарах Холдена все меня воодушевляло и ничто не сковывало. Старый, долговязый, он был социалистом, носил очки-половинки и каждый месяц давал нам удивительные задания: “Придумайте сцену бала на «Титанике»”. (Мне с моим балетом кочегаров в кепи, катающих тележки с углем, снизили балл за “пренебрежение контекстом”.) “Напишите сцену из Шекспира, показав ее связь с современностью”. (Я изобразила шеренгу многоквартирных домов Глазго, где у каждого окна сидит Джульетта, кладбища полнятся надгробиями Ромео, а по улицам разгуливают раненые Меркуцио в военной форме. Картина была отобрана в коллекцию Школы и впоследствии утеряна.)
Холден был лучшим наставником в моей жизни. Чтобы “приглашенные экзаменаторы не капали на мозги”, он уводил нас от влияния Пикассо (“такой талант ни привить, ни повторить”), зато не навязывал академических приемов, священных для других преподавателей, – прямая перспектива, точка схода, светотень. Великая монументальная работа, любил повторять он, находится в постоянном диалоге со средой: не теряясь на заднем плане и не перетягивая внимание на себя, она должна балансировать “на невидимой грани где-то посередине”. Когда Холден говорил, его слова оставались с тобой. Любуясь неоконченной работой, он крутил мочку уха, точно это был вентиль, а прохаживаясь по коридорам на верхнем этаже, громыхал тростью о батарею или насвистывал Ирвинга Берлина[9 - Ирвинг Берлин (1888–1989) – крупнейший американский композитор, написавший песню “Боже, благослови Америку”, которая стала неофициальным гимном Штатов.]. Иногда он ходил с нами в “Стейт-бар” и до самого закрытия баюкал маленькую порцию виски.
Самое вольное задание Холден дал на четвертом курсе, к выставке дипломных работ. “Напишите панно для платформы на Центральном вокзале”. Тема и материалы любые, без ограничений. “Это необязательно должно быть что-то связанное с вокзалом. Но конечно, вы должны подумать о том, как работа будет преломляться через окружение, и наоборот. Я хочу посмотреть, куда заведет вас фантазия. Но также я хочу, чтобы вы направляли ее в нужное русло. Понятно?”
Неделями я силилась выдать хотя бы одну идею. Парализованная и опустошенная, я дни напролет проводила в мастерской в поисках хотя бы намека на нечто настоящее, но любые проблески тут же гасли на страницах блокнота. Интуицию затмила тревога: а вдруг духа с задворок недостаточно? Вдруг мне вообще не стоило его слушаться? И тут на помощь мне пришел Холден. Протиснувшись в мой закуток и увидев пустоту холста, натянутого на подрамник, он спросил:
– Что такое, Элли? Ты что же, утратила боевой дух?
Я призналась, что именно так себя и чувствую.
– Тогда выбери другое сражение. Не бойся баламутить воду.
– Это как?
Холден задумчиво посмотрел на меня, будто увидел впервые.
– Напомни-ка мне, ты католичка?
– У меня мать католичка.
– Я не об этом спрашивал.