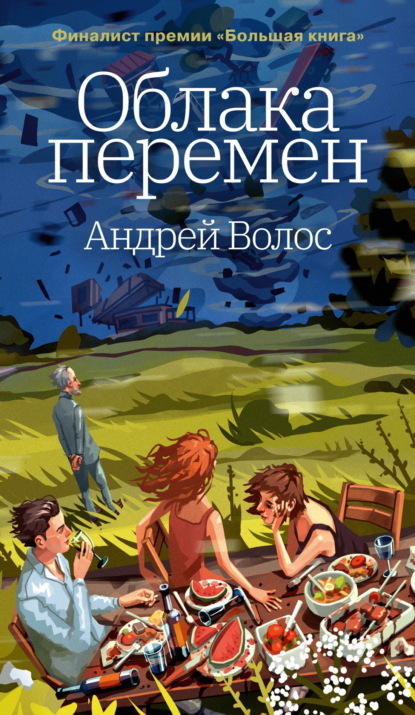
Полная версия:
Облака перемен
К лету выяснилось, что не зря тут и там мельтешат военные. Советский Союз взялся за решение бессарабского вопроса, и как Господь за шесть дней создал всё сущее, так и он за те же шесть дней вернул себе земли, незаконно оккупированные Румынией аж с восемнадцатого года.
Прошло ещё некоторое время, и Гордеев, обременённый уже не только женой, но и крохой-дочерью, по службе перебрался на сто с лишним километров западнее, в Бельцы.
Городок оказался маленький, но шумный. Ни румынской, ни украинской, ни тем паче русской речи не слыхать, зато идиш с лихвой восполнял недостачу: громогласно выплёскивался за пороги лавочек и щедро лился из распахнутых окон невзрачных домишек. Рынок певуче гомонил им, а у дверей синагог он вулканически клокотал, то бессильно стихая, то снова взрываясь негодованием…
Новая власть вводила новые порядки: еврейские организации закрылись, сионистская деятельность объявлена вне закона, школы на иврите прекратили своё существование, но идиш почему-то не подвергся преследованиям.
Ночи стали неспокойные: то тут, то там что-то гудело и топало, лязгало и грюкало, и стучало прикладами, и вскрикивало, и плакало, и голосило, и шикало. Ничто по отдельности не наводило на мысль, что это такое может быть, – а это было чмоканье и сёрбанье, с каким гигантская ночная жаба схлюпывала ещё одного врага советской власти. Напрасно тот хотел утаиться; тщетность его подлых усилий доказывалась тем, что скоро враг – когда в одиночку, а когда и со всей семьёй – становился насельцем влекущегося на восток вагонзака…
Меньше чем через год началась война – и наступили такие времена, по сравнению с которыми жестокость советских выглядела милой щекоткой.
Как именно бабушка Фаина переживала румынскую оккупацию, Василий Степанович в своё время не поинтересовался, теперь же спросить давно было не у кого.
* * *Что касается Гордеева, то ему и правда удалось дойти до Берлина.
История умалчивала, каких именно чинов он достиг.
Василий Степанович, по обыкновению, разводил руками и пырхал междометиями. Правда, имелись точные сведения, что по окончании войны Гордеева направили в Киевскую ВПШ. Исходя из этого и использовав самые общие знания жизни, мы с Василием Степановичем решили, что он закончил войну майором. «Лейтенанта бы не послали, – рассуждал Василий Степанович. – И полковнику там делать нечего. Капитан? Не знаю… Майор он был, как пить дать майор!»
Следовало заключить, что военная судьба Гордеева повернулась благоприятно: и жив остался, и карьеру сделал.
Что же касается Фаины, то её доля по любым меркам складывалась несчастливо.
До войны всё было хорошо. И ребёнок у неё рос, и муж на виду, хотя служба у него была, конечно, нервная.
Когда же началась война, всё обрушилось так быстро, что они и проститься толком не успели.
Ни о чём таком Гордеев прежде ей не говорил. Да никто ни о чём подобном прежде и подумать не мог. Все знали, что в случае чего Красная армия остановит вероломного врага, после чего перейдёт в безусловное наступление.
Ординарец ждал с лошадьми у ворот, Гордеев целовал её, успокаивал, обещал непременно вернуться через сутки-двое, чтобы обнять как следует. Потом-то они долго не увидятся: месяца два небось, а то и три. Нужно понимать: победный поход – это ведь не так себе прогулочка, стоит на карту глянуть, оторопь берёт, сколько топать до того Берлина, до прочих столиц главных капиталистических государств!
А потом – бац! – недели не прошло, и они с Лидочкой обнаружили себя на заново оккупированной румынами территории.
С той поры ей, безмужней жене, пришлось пережить все тяготы, на какие обрекает людей громадная, чёрная, нескончаемая война.
Всё это время Фая прилеплялась к дочке, к Лиде, – она одна была у неё в настоящем, единственная своя, любимая, живая и тёплая.
Хорошо ещё, что с самого их переезда в Бельцы у военных были сумбур и неразбериха. В командирском городке жилья семейству не хватило, Гордеев сердился, что приходится временно бытовать на съёмной хате у тётки Аглаи: все, дескать, там душа в душу соседствуют, а они тут, на отшибе, обсевками. Но впоследствии, когда сигуранца начала всерьёз рыскать и до каждого докапываться, Фае удалось скрыть, что муж – красный командир и политрук: тётка Аглая её не выдала, а из военного городка, где квартировали командирские семьи, многих женщин похватали.
Долго всё это было, долго и тягостно.
Но в марте сорок четвёртого года накатилось дальнее громыхание. Двое суток гудело и ухало, а после суточного затишья в Бельцы вошли советские войска.
Стало ясно, что немец не вернётся. Те недобитки, что остались, теперь ни у кого не вызывали страха. Их спозаранку приводили в город колоннами с южной окраины, из лагеря военнопленных, и дотемна они копошились в руинах, разбирали завалы. Вечером тем же строем гнали обратно. Несколько раз Фаина видела, как живые молча несут мёртвого. Говорили, им, будто в насмешку, позволяют хоронить только на еврейском кладбище. Провожая взглядом их, оборванцев, спотыкающихся со своей тяжкой ношей в охраняемой колонне, Фаина не могла сдержать слёз: вспоминала о своём.
До освобождения она о Гордееве старалась не думать. Хотя думалось, конечно, беспрестанно.
А уж когда Бельцы снова стали советскими, думать о нём и вовсе не стало нужды, кой толк был теперь о нём думать.
То есть думать в смысле «жалеть и горевать», она продолжала, а думать в смысле «ждать и надеяться» – нет. Душу травить, а толку никакого. Под немцами это имело хоть какой-то смысл: можно было надеяться на чудо. Но когда немца прогнали, всё окончательно прояснилось: если бы Гордеев был жив, он пришел бы к ней с теми солдатами, что их освободили.
Так говорило сердце.
Ум тоже время от времени пытался возвысить свой слабый голос: окстись, дескать, о чём ты, не вся же Красная армия двигалась через твои несчастные, богом забытые Бельцы! Когда со столба на рынке снова заговорил советский громкоговоритель, трижды в день ликующе озвучивая сводки Совинформбюро, она узнала, на скольких фронтах идёт война…
Но соображения ума были не в счёт, ей и сердца хватало.
А потом пришло письмо. Гордеев сообщал, что воюет, называл её женой, хотел знать, жива ли, и, разумеется, спрашивал о Лиде.
Немыслимо!.. Это было то самое чудо, на которое она, собственно, и надеялась, потому что в действительной, простой и неволшебной жизни не оставалось ничего, что могло бы подарить ей хоть краешек надежды.
Было понятно, почему он так скуп на слова: зачем они, если нет уверенности (да, пожалуй, и надежды почти нет), что записка найдёт адресата.
Счастье клокотало в ней, бурлило, кипело. Она то прижимала сложенный треугольником листок к груди, то выпускала из рук, чтобы снова посмотреть на него изумлённо и недоверчиво, – и так плакала, что срывалась в рыдания.
А Лида никак не могла понять, что за страшная бумажка, почему мама так её испугалась.
– Что ты, доченька, это я от радости! – повторяла Фаина, целуя её. – Папино письмо, папино!
Лида множество раз слышала слово «папа». И хоть не знала толком, что это такое, но всё же и ей было приятно, она тоже улыбалась.
У кого бы теперь повернулся язык назвать Фаину несчастной? Она – несчастная? Да как же: у неё муж с фронта вернулся! Редкое исключение из правила, а не само правило.
Остаток военного времени она думала о нём ежеминутно, ежесекундно; а победные залпы (в Бельцах не было никаких залпов, но если кто хотел, мог услышать московские по радио) ознаменовали не только окончание войны, но и возможность для неё всерьёз увериться, что с этого дня с Гордеевым ничего страшного не случится.
Но именно после победных залпов, когда война наконец кончилась и настало время долгожданной встречи, Гордеев как сквозь землю провалился.
Дело было и томительное, и страшное: а что, если всё-таки погиб! – но вдобавок и загадочное: если бы погиб, пусть и в последние дни, пусть и в самый последний день, пусть даже, как вон пишут в газете, и днём позже довелось кому-то встретиться с осатаневшим от отчаяния фрицем, – всё равно была бы похоронка!..
Однако похоронки нет, а значит, жив, – а если жив, так почему ни весточки?
По прошествии нескольких месяцев напрасного ожидания её в сельсовете надоумили предпринять поиски.
Честно сказать, она уже и не надеялась, принялась из упрямства, из чувства долга. И многоступенчатая череда запросов завершилась неожиданно успешно: последняя бумага с казённым штемпелем извещала, что её муж Гордеев жив-здоров и проживает в городе Киеве в качестве слушателя Высшей партийной школы.
Господи, счастье-то какое!..
Но и совсем всё стало непонятно: жив – и что?
Фаина не могла знать, а в жизни Гордеева было, кроме тягот и опасностей, ещё одно военное обстоятельство: на фронте он нашёл себе новую жену. Причём эту женщину даже нельзя было назвать походно-полевой: походно-полевые жёны прекращают быть таковыми по окончании походов и перевода военной полевой жизни на мирные рельсы. А Гордеев со своей не расстался и повёз с собой в Киев.
Может быть, такое Фаине и в голову не могло прийти. А может быть, наоборот, она что-то подозревала. Во всяком случае, Фаина не стала досаждать почтовому ведомству новыми письмами, а, недолго думая, собрала дочку и поехала наводить мосты явочным порядком.
По мнению Кондрашова, будучи обнаруженным, Гордеев пытался и дальше морочить Фаине голову: объяснял своё безвестное невозвращение в семью необходимостью учёбы в ВПШ и говорил, что оно временное. Пусть Фаина ещё чуточку потерпит. Война вон четыре года была, и ничего, а трёхлетняя учёба пролетит – вовсе не заметишь. И тогда он вернётся к ним во всём сиянии новой славы. Вероятней всего, что вместе с дипломом ему дадут важное назначение и они уедут на новое место всем своим наконец-то воссоединившимся семейством.
Возможно и такое, что Гордеев не до конца был уверен в перспективах новой жизни и оставлял себе пути к отступлению. «Дочь есть дочь, что тут скажешь, – вздыхал Василий Степанович. – Бабушка Фая всё равно бы его к себе приняла».
Но кто бы что ни думал о будущем, а вышло вот как: Фаина предварительно разведала в ВПШ, где живёт слушатель Гордеев, приходящийся ей законным мужем, и для наведения мостов явилась прямо в общежитие.
Вахтёрша, пожилая женщина в шерстяной кацавейке, услышав вопрос Фаины, не стала скрывать своих подозрений. Да и к чему ей было их скрывать, её тут не деликатничать посадили, она на посту, а мужское общежитие есть мужское общежитие, какому бы ведомству ни принадлежало, порядки в нём известно какие, против природы не попрёшь.
Но, поглядев затем на девочку, что крепко держалась за мамину юбку, испуганно озирая невиданную роскошь общежитского холла, и прикинув, что какая дрянь ни будь, а с малолеткой по мужикам таскаться не станет, эта добрая женщина пошарила в журнале и нашла нужную фамилию.
«Ого! – сказала Фаина, ощутив прилив объяснимой гордости. И подмигнула Лиде, чтобы приободрить. – Папка-то какой! Слышишь? Целую комнату занимает!..»
Они поднялись на третий этаж и смело постучали. «Сейчас папулечка нам откроет, – прерывающимся голосом сказала Фаина. – Лишь бы дома оказался!..»
Но открыл им не папулечка, а незнакомая тётя, которая, судя по тому, как прищурились её кошачьи глаза, с первого же взгляда всё о них поняла…
Что думала теперь Фаина, также выходило за рамки приблизительных сведений, в целом имевшихся у Кондрашова об этой истории.
– Не знаю, не знаю, – задумчиво говорил Василий Степанович.
– А по-моему, всё понятно, – возражал я. – Нормальное женское поведение. Ей же хотелось вернуть мужа!
– Разве так возвращают? – фыркал Василий Степанович. – Мужа трудно вернуть. Не всем удаётся… Но допустим, что так, хотела вернуть. Тогда зачем заявление?
Это и правда было не совсем понятно. В заявлении на имя руководства ВПШ Фаина подробно и не скупясь на эпитеты, то есть красочные определения, описала моральный облик Гордеева, с которым судьба ошибочно связала её узами брака.
Возможно, в той ситуации скупое изложение голых фактов говорило бы о Гордееве больше, чем её запальчивые обвинения. Но Фаина не собиралась прятать правду. Она писала, что фронтовые награды Гордеев получил не благодаря проявленным им качествам командира и политрука, а посредством интриг и, возможно, предательства. Так что дело было за арестом и следствием, по окончании которого подсудимому предстояло понести суровое наказание по самым безжалостным законам военного времени.
– Это бабушка сама мне рассказывала, – кивал Василий Степанович. – Я маленький был, но запомнил, очень уж необычно звучало. Вот, говорит, Вася, слушай, какой подлец у тебя был дедушка!.. – И горячился: – И что? И зачем? Чего она своей глупой цидулей добилась? Что Гордеев бежал от неё как от огня? А чему удивляться? Конечно! Побежишь тут! Его по этому заявлению из ВПШ отчислили – каково? Катастрофа ведь!.. Правда, задним числом отчислили, чтоб анкету не портить. Справку в зубы, что слушал курс, – и в Адыгею, на Северный Кавказ, зерносовхозом руководить. Этого она хотела?..
* * *Караванов был родом из России, из города Балашова. Он тоже прошёл войну, служил в лётных войсках. Но в сталинские соколы не вышел, самолётов не поднимал, состоял по технической части. Не то даже по интендантской, точно Василий Степанович не знал, а теперь (я уже привык к этой формуле) и спросить было не у кого.
В мирной жизни Караванов принадлежал к прослойке руководителей среднего звена, не поднимаясь выше, но и не опускаясь ниже неких номенклатурных границ: телеателье было под его началом, банно-прачечный комбинат, иные предприятия такого же калибра, небольшим мясокомбинатом заведовал.
Василий Степанович звал его дедушкой Каравановым. Это бабушка Фая так поставила: не просто «дедушка», а вот именно «дедушка Караванов» или хотя бы «дед Караванов». Наверное, чтобы всякий раз тем самым отмечалось, что у Васи есть и настоящий дедушка, какой ни будь он предатель и подлец. Вероятно, так причудливо переплетаются подчас распоряжения судьбы с представлениями о порядке кровной родственности.
Подростком Василий Степанович застал последнюю должность деда Караванова, с которой тот вышел на пенсию, – директор Октябрьского рынка.
Даже сделавшись пенсионером, Караванов на всякого производил серьёзное впечатление. Он никогда не повышал голоса – наоборот, о чём бы ни шла речь, говорил с мягкой вкрадчивостью, не употреблял ни бранных, ни даже просто грубых выражений и всегда был прилично одет, то есть в костюме и при галстуке. «Представляете, Серёжа, – качал головой Василий Степанович, – даже если на помойку с ведром, и то без изъятий! Железный был человек!..»
И во взгляде Караванова не было ничего пугающего: спокойный взгляд серых, всегда мягко прищуренных глаз.
И всё же было в его взгляде нечто такое, что, где бы Караванов ни тянул лямку, у подчинённых не возникало даже малой мысли о прекословии.
Припоминая облик и повадки деда Караванова, Василий Степанович часто запинался, искал новые слова, чтобы точнее выразить то, что его по-настоящему в нём удивляло. Новых не находил и повторял заново:
– Суровый был человек… ой суровый!.. – И тут же поправлялся: – А ведь так-то и не скажешь… по разговору-то. Разве злой?.. Совсем нет. И смотрит хорошо… Даже ласково смотрит… Я его не то чтоб боялся, что мне было бояться?.. родной, по сути, человек… но побаивался точно. Вот даже не знаю почему. Никогда ничего от него плохого… Что в нём было? Военная закалка? Время его таким сделало?.. – Недоумённо качал головой и завершал неожиданно: – Настоящий был коммунист!..
А ещё, говорил Василий Степанович, выйдя на пенсию, Караванов взял за правило писать. Василий Степанович по этому поводу неоднократно шутил: мол, может, в нём самом эта тяга от деда, пусть и неродного. Но оговаривался: у него-то тяга застарелого эстетического свойства, а дед Караванов писал в инстанции, добиваясь порядка. Тогда принято было писать: чуть что не так, всякий за перо, вот и он тоже. Не в жилконтору, значит в исполком, не в газету, так в прокуратуру.
А писал Караванов хорошо: крупно, ровно, строка к строке, просто загляденье, будто печатал, а не писал, – буковка к буковке. Заполнив страницу, тщательно перечитывал, выискивая ошибки, и если таковых не находилось, приступал к расстановке знаков препинания.
При этом, как казалось малолетнему Кондрашову, на последнем этапе дед Караванов руководствовался не синтаксическими, а некими пространственными, геометрическими и, по сути, тоже эстетическими соображениями: расставлял запятые и точки, чтобы итоговый документ радовал глаз соразмерностью, а не так, чтобы где-то густо, а где-то пусто.
* * *Фаина встретилась с ним в начале зимы сорок шестого года.
Было пасмурно. Большие снежинки торжественно летели с неба – опускались без суеты и спешки, нисходили, не теснясь, предоставляя зрителям возможность рассмотреть каждую в отдельности и восхититься её чудным сложением. Ах, если бы они явились чуть раньше, всего несколько лет назад!..
Как бы им радовались дети! Как бы привставали на цыпочки, протягивая ручонки, как ловили, а, осознав ошибку, подставляли бы уже не тёплые ладошки, а холщовые рукава и, бережно отнеся на сторону, кричали и хвастались друг перед другом: «Смотри, у меня самая большая!.. Нет, у меня!..»
Но кружево небес опоздало.
Ныне не было никого из тех, кто стал бы задирать к ним голову, встречая и приветствуя.
Снежинки разочарованно падали на неживую, замусоренную землю: на кирпичный щебень – свидетельство былого существования крепкого дома, на древесную щепу – свидетельство былого существования бревенчатой избы.
В самом начале войны несколько немецких и румынских авиационных налётов разрушили бо`льшую часть городка.
Что уцелело, безмолвствовало.
Певучая еврейская речь, гортанные цыганские восклицания если и блуждали кое-где в руинах улиц, то лишь призраками, неслышными переливами умолкших голосов. Люди же, некогда ими обладавшие, тысячами и сотнями тысяч лежали во рвах близ Тирасполя, на Вертюжанах и в Секуренах, в Косоуцком лесу, в десятках иных мест…
Фаина шла к рынку, а в одной из развалин какой-то человек в шинели хватко, со скрежетом и пылью ворочал каменюки, норовя что-то из-под них вытащить. Вот рванул со всей дури – и кирпичный осколок, стрельнув снизу, угодил Фаине в плечо.
– Ой! – вскрикнула она от неожиданности. – Гражданин! Вы что? Вы же меня ударили!
Человек распрямился и сказал, утирая лоб:
– Ну что вы! Я никогда не бью нежного женского тела.
Голос у него был негромкий, даже какой-то вкрадчивый, а взгляд такой, что Фаина просто оторопела.
* * *Дед Василия Степановича по отцу, Фёдор Кондрашенко, забогател на службе у румынского генерала.
Это было всё, что, со слов отца, знал о нём Василий Степанович. Подробностей не существовало. «Я же ясно говорю! – раздражался Кондрашов. – Румынский генерал! Что непонятного? Обыкновенный румынский генерал!»
Напрасно я толковал, что определение «румынский генерал» ничего не говорит и не может сказать тому, кто хоть краем уха слышал о Первой мировой, обо всей сумятице, что внесла она в жизнь Европы, о той дикой мешанине границ и понятий, в которой терялись представления не только о государственных, но даже и о национальных принадлежностях.
Мои рассуждения Василия Степановича не урезонивали, а только пуще заводили. «И что теперь, Серёжа? – вопрошал он, иронично на меня глядя. – Будем учебники истории переписывать? Фальсифицировать начнём?»
Я, в свою очередь, не мог взять в толк, что он разумеет под «переписыванием учебников». Но вопрос повисал в воздухе, и я вынужденно смирялся.
Тем не менее общими усилиями мы пришли к заключению, что генерал вышел в отставку. Должно быть, служба позволяла ему иметь денщика на казённый счёт, а содержать такового на собственный он посчитал нецелесообразным.
Прослужив у него много лет, сделавшись благодаря этой службе по крестьянским меркам богачом, а с уходом генерала со службы тоже выйдя в тираж, Кондрашенко поднял семью и вернулся в родное село.
Появление Кондрашенки во всём блистании богатства там, откуда он когда-то сбежал оборванным мальчишкой, произвело немалый шум и породило множество вопросов.
Фёдор не тянул с ответами. Он купил земельный надел и капитально обустроился: построил дом и завёл конюшню.
Лет через пять его лошади, побывав на нескольких ярмарках, получили известность в округе под названием «кондрашенковские» и начали приносить заводчику неплохой доход.
Кондрашенко жадно интересовался коневодством, всем иным – по мере необходимости, а политикой – никак.
Поэтому, когда двадцать шестого июня тысяча девятьсот сорокового года Вячеслав Молотов вручил румынскому послу требование советского правительства о передаче СССР Бессарабии и Буковины, это не стало для Фёдора громом среди ясного неба. Возможно, он вообще никогда не узнал о дипломатических обстоятельствах дела.
Утром двадцать седьмого Румыния в ответ объявила всеобщую мобилизацию. Но ближе к вечеру король Кароль II решил удовлетворить советское требование и мобилизация прекратилась. По этому поводу позже ходили кое-какие слухи, преимущественно радостного характера, – но Фёдор и в них особо не вникал, ибо сам для армии был староват, а дети, наоборот, ещё не доросли. Хотя старшие уже подтягивались.
Зато, когда двадцать восьмого Красная армия начала занимать спорные территории, Кондрашенко сделался прямым участником событий, ибо по окончании быстрой и бескровной операции вся жизнь вокруг начала стремительно меняться.
Пусть его косяки не шли ни в какое сравнение с табунами настоящих заводов и имели исключительно областное значение, но всё же прежде Фёдор гордо называл себя коннозаводчиком. Однако уже к новогодью сорок первого его горделивость потеряла всякие основания: его единым духом превратили в рядового колхозника.
Дом тоже был утрачен – в хоромине поселился Алексеевский крестьянский клуб. А семейство Кондрашенок – сам Фёдор, жена и шестеро детей (рожала-то Анна восемнадцать, да не все выжили) – получило милостивое разрешение обременить собой шаткую сторожку на краю участка.
Многие недоумевали, отчего и Кондрашенок не присовокупили к пассажирам тех двух или трёх куцых обозов в несколько телег каждый, что, сопровождаемые бойцами НКВД, увезли кое-кого в Калараш, на ближайшую станцию железной дороги.
Понятно было, почему в числе арестованных оказался отец Митрий с женой и детьми: всё равно службы прекратились, а требы батюшка кое-как совершал, пока церковь не закрылась окончательно; не могло быть двух мнений насчёт семейства Галицких – известные на всю округу богатеи; не вызывал вопросов и Петру Ракаш, отъявленный мироед; а с чего бы коннозаводчика Кондрашенко со всем семейством оставили? – просто умом разойдёшься.
Может быть, случай: кто-то промашку дал, не проявил должной бдительности, спустя рукава обязанность исполнил; а может, ещё какие обстоятельства сыграли роль.
Так или иначе, а дальше всё покатилось, будто так и должно было: человек ко всему привыкает и находит новую форму существования.
Вот только делать Фёдору стало совсем нечего, и некоторое время он маялся, не находя себе места.
Но чем от века хорош этот край, хоть Румынией зови, хоть Молдавией, так это тем, что уж чего-чего, а выпить всегда найдётся.
Последние несколько лет Фёдор провёл в таком состоянии, будто к самым его глазам поднесли неотступную лупу титанических крат. Благодаря её несуразному, ни с чем не сообразному увеличению всё кругом размывалось в цветные пятна и становилось уютным маревом. Из мешанины линялых красок нельзя было извлечь конкретных деталей. Он не хотел – да и не мог ничего взять в толк: ни того, что началась война, ни что снова явились румыны, ни что потом и немец заскакивал, ни что ноги ему отказывают, ни что голова отчего-то стала трястись…
Бывшая колхозная конюшня давно пустовала (ещё с тех пор, когда советский красный командир, отступая, реквизировал сколько было лошадей на предмет пополнения артиллерийских упряжек), но запах оставался. Фёдору проще было завалиться в пустые ясли, чем искать пятый угол в семейственной сторожке.
Там он однажды и упокоился.
* * *От румын повзрослевшие братья Кондрашенки каким-то образом уворачивались.
А в сорок четвёртом, когда советские войска освободили Алексеевку, всем лицам семейства первым делом выдали учётные бумаги. Записали при этом на русский лад – Кондрашовыми. Вдова Фёдора, мамка Анна, пыталась возражать против нововведения, но с ней не очень-то рассусоливали: по сю пору неграмотна, тётка, крест поставь, где надо, и не умничай, тут лучше знают, кого как писать. А хлопцы хоть и недоросли, а уже всякого навидались, наслышались и того больше; лишь бы до печей дело не дошло или газовых камер, а там хоть и горшком зовите – ничего, можно.
После этого четверых старших забрали добивать фашистов. Полгода спустя взяли в армию ещё одного, а потом и младшего, Степана.



