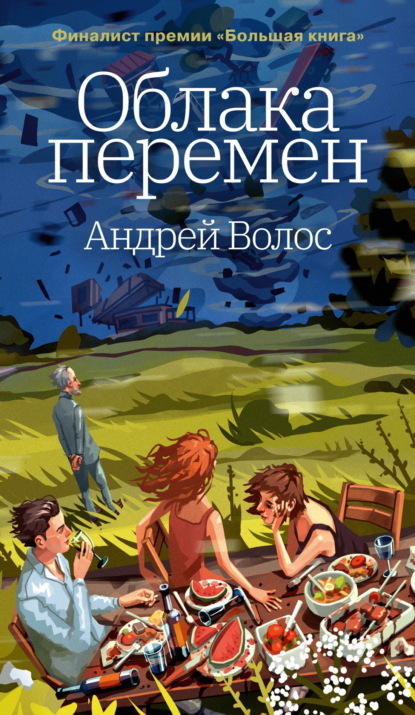
Полная версия:
Облака перемен
Я сделал хорошую мину при плохой игре. Конечно-конечно, забалаболил я, вот о том и речь, чудный этот ваш Нефёдов… ах, вы не у него учились, ну что ж, а я бы с удовольствием… да хоть бы даже и уму-разуму, о вас-то этого никак не скажешь, а мне ума-разума в самые ответственные моменты катастрофически не хватает.
Слово за слово: какая славная погода и так далее.
Она всё взмахивала на меня ресницами, улыбалась и лукаво щурилась, когда я удивлялся, что её никто не сопровождает: в том смысле, что странно в наши дни видеть столь яркую красоту не обременённой никчёмным спутником. И по ее затаённой усмешке я уже понимал, что не всё так просто.
Скоро выяснилось, что я угодил ровнёхонько в промежуток между двумя эпохами её жизни. Причём предыдущая фатально завершилась буквально позавчера.
Это она говорила так торжественно: завершилась фатально, полный крах, страшный в своей окончательности разрыв. В действительности они просто повздорили, рассорились, как это часто бывает, и если бы не моё участие, то очень скоро всё вернулось бы на круги своя.
Не исключено даже, что Лилиана хотела – сознательно или бессознательно – использовать меня в качестве временной отдушины. Примерно так подводники высовываются наружу глотнуть свежего воздуха, когда лодка всплывает, и тут же снова задраивают люки, чтобы вернуться в места постоянного обитания.
Но я сделал всё, чтобы этот глоток затянулся.
Что бы там она ни говорила, я знал, что у неё кто-то есть. Тут не надо обладать особым даром прозорливости: у привлекательной женщины всегда кто-нибудь есть, и хорошо ещё, если кто-то один. Разумеется, дело было не в том, чтобы она дожидалась именно меня, не глядя по сторонам и не думая о счастье. Нужно было лишь ненадолго отбить ей память, чтобы она о нём – или о них – на время забыла, а для этого следовало беспрестанно говорить о своих чувствах.
Всё шло хорошо, но мои тайные надежды, что того, кто прежде был возле, тихо унесёт течением существования, не оправдались – он всплыл. Это на заводе следующая болванка подъезжает, когда предыдущая сточена в ноль, а в жизни всё сложнее.
Не знаю, кому больше ему хотелось досадить – ей, мне или, чего нельзя исключать, самому себе, – но некоторое время он упрямо маячил на горизонте, просто проходу не давал. Ревность – страшная сила, она пробуждает в людях звериное чутьё, да и круги общения не так широки, как может показаться, в итоге мы разве что в постели на него не натыкались.
К чести Лилианы следует заметить, что, когда я начинал топыриться и на павианий манер стучать в грудь кулаками, она утишала меня как могла, уговаривала, мол, не надо ничего даже пытаться предпринимать, всё устроится само собой, время лечит, а раны затягиваются.
Всё это было так, но, чтобы началось то время, которое лечит и затягивает раны, прежнему времени нужно остановиться на стадии тихих сожалений, вроде тех, что испытываешь, когда, например, потеряв полдня в очереди, у самого окошка узнаёшь, что тебе надо было в другое.
Однако ревнивец не успокаивался. Я с тревогой замечал, что его настойчивость небесполезна, нелепые усилия не вовсе пропадают даром: Лилиана тихонько вздыхала, тайно грустила.
Отношения помимо моей воли вошли в новую фазу. Суть состояла в том, что она хотела проститься с ним по-человечески. Я не пытался добиться у неё уточнения, какой именно смысл она вкладывает в определение «по-человечески», мне это было интуитивно понятно; но делал всё, чтобы не позволить этому сладкому прощанию состояться, а не то что уж затянуться.
Пиком общей нервотрёпки стал период (к счастью, недолгий), когда мы втроём взошли на этот пик, оказавшись в состоянии неустойчивого равновесия.
С достигнутой совместными усилиями вершины Лилиане одинаково легко было соскользнуть как в долину прежних отношений, где её ждала не часто возникающая возможность покаяться перед любимым и даже, возможно, омыть слезами его исстрадавшиеся от её гадкой неверности стопы, так и на пажити новых, где бы она могла жарко доказать новому любимому, что вся её прежняя жизнь наполнена горестными ошибками (да что там, вся она – одна большая ошибка), но за ошибки нельзя винить, тем более что они никогда не приносили ей радости, а случались оттого, что она ещё не знала, с кем именно возможно истинное счастье.
* * *Первые дни, первые недели нашей любви мы без устали болтали. То есть я-то по большей части помалкивал, лишь время от времени получая возможность вставить словечко, а Лилиана говорила, рассказывая о себе много и с удовольствием.
Немудрено, что скоро она стала несколько повторяться, всё-таки жизнь её (её жизнь трудно определить одним словом, точнее всего сказать, наверное, «жизнь кабинетного учёного») была довольно бедна внешними событиями. Ну детство, ну школа, ну институт, ну каникулы, ну Адлер или что там ещё.
Меня это не смущало, мне нравилось внимать её речам, я готов был слушать и по второму, и по третьему разу. Говорила Лилиана хорошо – образно, весело, со смешными сравнениями и забавными ремарками, а если принималась изображать происшествие в лицах, то и это славно удавалось.
Вскоре я стал замечать, что повторения, которые должны были бы являться подобно эстампам из-под одного камня, всё-таки друг от друга отличаются – и подчас довольно значительно.
Например, она говорила, что подрабатывает в издательстве, достоверно и со знанием дела описывала процесс, сетовала на въедливость заведующей редакцией, на её безграмотность и некомпетентность: сама чуть ли не «корова» пишет через ять, а когда Лилиана в какой-то рукописи, наверняка графоманской, поправила «бранспойт» на «брансбойт», так шуму до небес.
Но при этом издательства почему-то меняли названия, и то она трудилась в отделе прозы, где её ценили за начитанность, то занималась путеводителями, где начитанность не играла большой роли, зато требовалось знание английского. В следующий раз английский становился итальянским, а окончательно дело запутывалось тем, что Лилиана и в самом деле обоими владела – уж не знаю, в совершенстве ли, но точно, что мне самому на вечную зависть.
Или вот в ранней юности она дружила с одним большим художником, познакомилась на открытии его персональной выставки в ЦДХ. Потом обнаружилось, что выставка открывалась в Манеже, а ещё чуть позже – в залах Академии. Тем не менее сам художник оставался знаменит и величествен, что же касается профессиональной манеры, то сначала он был баталистом и много внимания уделял графическим работам, затем тяготел к «жречеству», далее становился одной из виднейших фигур концептуального искусства (в ту пору объектами его художеств были исключительно зайцы-русаки), а впоследствии и вовсе встал на путь акционизма, находя смысл искусства в проекции на белый экран круговых движений человеческих членов, – и я, пытаясь вообразить чередование разнообразных вех его творческой эволюции, недоумевал, об одном и том же художнике идёт речь, или всё-таки их было несколько.
События раннего детства тоже являлись странно переменчивыми, словно она всякий раз тащила наугад карту из колоды и сама удивлялась, что это семёрка бубен, а не валет червей, как в прошлый раз.
Она была совсем маленькой, когда мама с папой по дороге на дачу попали в аварию. Это было ужасное, непереносимое событие: мама погибла. Обломки рухнувшего тогда мира вторгались в настоящее: глаза Лилианы становились большими и мокрыми, я сочувствовал и утешал как мог.
Когда она впервые поделилась со мной несчастьем, то следующие полтора часа мы провели в совершенном трауре, а немного отвлечь её мне удалось, когда я предложил не ограничиваться кофе, а взять по салату, и она выбрала с крабами.
Во второй репликации мама летела к папе самолётом. Папа с киногруппой отправился раньше, она следом – и её самолёт не долетел, вот такая история.
Третья версия гласила, что случилась не авиакатастрофа, а ужасный удар лёгочного вируса. В Москве её бы, скорее всего, спасли, но дело было на съёмках папиного фильма, и там, где-то между Ташкентом и Фрунзе, дело закончилось самым плачевным образом…
Ничто из этого нельзя было даже в шутку назвать обманом, ведь обман преследует практические цели – нажиться или уйти от наказания, а Лилиана выдумывала совершенно бескорыстно. Казалось, она впадает в транс, проговаривая то, что внушает ей некий горний голос, или описывает встающие перед мысленным взором картины, не управляя даже очерёдностью их появления. Понятно, что при попытке повторения и картины вставали чуть иные, и голос нашёптывал совсем не то, что бормотал прежде.
Короче говоря, её легко можно было поймать на расхождениях.
Господи, говорил я, смеясь и целуя её пальцы, это же просто дар! Настоящий, истинный дар! Зачем он тебе? Это мне, мне такой нужен, как бы он мне пригодился, ведь это я писатель, а не ты!
Лилиана усмехалась.
Ей и правда оставался один шаг до личного участия в литературе: ведь у неё было филологическое образование. Я мог лишь мечтать о том, что для неё давно стало рутиной. Её научили приёмам сравнения отдельных литературных явлений с целью выяснения тенденций их общего развития. Ей ничего не стоило разобраться в закономерностях рождения бессмертных шедевров, равно как и в причинах творческих неудач. Всё, что касалось расстановки разного рода «измов», было для неё открытой книгой, и ни один сколь угодно каверзный вопрос – хоть, например, откуда растут ноги романтизма, хоть каковы пути угасания реализма – не мог поставить её в тупик.
Лилиана третий год состояла ассистентом на университетской кафедре филологического направления, по мере сил сея в других то, что когда-то взошло в ней самой. Было бы странно ей вдобавок к такому багажу знаний и опыта иметь какие-нибудь иллюзии, касающиеся литературы: слово «писатель» было для неё столь же обыденным, как для иного «сантехник» или даже «сковородка».
Кстати говоря, мы могли бы составить хорошую пару именно в литературном отношении: описать историю одной любви в двух разных книгах, каждый по-своему. Делали же такое Бенжамен Констан и Жермена де Сталь?.. или, кажется, Макс Фриш и Ингеборг Бахман… почему бы и нам не попробовать?
Если бы затея удалась, эти два романа были бы разительно не похожи: что в одном выступало главным, в другом бы едва угадывалось; а что в этом звучало мощными аккордами, в том слышалось бы разве что слабыми отголосками.
Увы, на бумаге Лилиане не удавалось связать даже пары слов без того, чтобы читающий не испытал недоумения. Весь её талант уходил в устное творчество, в остальном её хватало лишь на милое амикошонство: ну что, брат Пушкин…
Если мы об этом заговаривали, Лилиана со смехом признавала, что так и есть, ведь важную часть филологического образования составляют литературные сплетни разных эпох и народов, а они чрезвычайно способствуют тому, чтобы почувствовать себя на одной ноге с гениями: исподнее и впрямь у всех одинаковое.
* * *Лилиана жила на два дома: чтобы не тратить лишнего времени на дорогу, она снимала милую квартирку неподалёку от университета, а выходные – плюс-минус библиотечные дни и отгулы за прогулы – проводила в Кондрашовке.
Так, по фамилии, назывался их семейный участок. Отец Лилианы сидел там практически безвылазно: давно на пенсии, в Москве делать нечего, зато на даче дел по горло.
До поры до времени вдаваться в детали у меня не было нужды. Мало ли под Москвой дачных мест: чёрта с два отличишь одно от другого, если самолично не прополол грядки, не окучил кусты смородины. Прежде фанерные скворечники на шести сотках, ныне намётанные тут и там россыпи безликих коттеджей на восьми.
Смутные образы насчёт того, легко ли сочетать судьбу отставного кинематографиста с хождением к колонке за водой и осенней копкой картошки, проплыли в сознании и растаяли, не сгустившись даже до такой степени, чтобы стать поводом для хотя бы минутного разговора.
Как обычно, жизнь оказалась шире моих о ней представлений.
Я понял это в тот же миг, когда такси остановилось перед воротами.
Несколько секунд я смотрел на них в тупом изумлении.
В силу своей величины и вычурности эти ворота выглядели взятым напрокат предметом реквизита. Золочёные завитушки, причудливо кудрявившиеся поверху и в изобилии украшавшие чугунный ажур каслинского литья, укрепляли в мысли, что, как только эпизод будет завершён, дюжие молодцы снимут отчётную вещь с петель и погрузят в грузовик. Такой исход было легче вообразить, чем то, что сей образец неслыханной роскоши останется здесь без вооружённой охраны и после того, как съёмочная площадка опустеет.
Слева за оградой (тоже поверху золочёной и витой) виднелось строение, более всего похожее на оснащённый узким окошком железнодорожный контейнер. Когда я опустил стекло пассажирской дверцы, динамик под его плоской крышей хрипло, но вежливо спросил:
– По договорённости?
– Не знаю, – ошеломлённо сказал я. – Лилиана Кондрашова, случайно, не здесь живёт?
– Здесь.
– Правда? Тогда по договорённости.
Он не потрудился отпустить кнопку переговорного устройства. Динамик продолжал вещать, хотя и значительно тише:
– Лилиана Васильевна? К вам гости… Как зовут?
Последнее было обращено ко мне.
– Николаев, – сказал я.
– Николаев, – повторил рупорок в сторону, а потом одобрительно хрюкнул: – Проезжайте!
Ворота раскрылись, мы въехали на участок и тронулись по асфальтированной дорожке.
Справа мельтешили сосны, за ними в отдалении блеснуло зеркало пруда; слева куртины чередовались со строгими, посыпанными гранитной крошкой аллейками и весёленькими лужайками, обсаженными кустами лигуструма.
Мы катили мимо сосен и скамей, мимо белёной беседки и кирпичного павильона, мимо каменной женщины на кубообразном постаменте, мимо других лужаек и других аллеек, других павильонов и других беседок.
Уже на середине пути я бы не удивился, приметив невдалеке возле завалящего стожка пару-другую обутых в лапти крепостных с вилами или стайку румяных девок с ягодными лукошками.
По общему впечатлению от землевладения в конце пути нас должно было встретить что-нибудь наподобие замка Линдерхоф.
Однако двухэтажный дом с колоннами, к которому в итоге привела дорога, был хоть и величествен, но в целом без особых излишеств.
Лилиана стояла на крыльце – джинсы, майка, фиолетовая кофточка. Лицо почти целиком закрыто громадными чёрными очками.
– Привет, – сказал я.
– Привет, – весело ответила она, сдёргивая очки и щурясь. – Прошу!
Мы миновали прихожую и очутились в большой комнате, где пахло не то сеном, не то яблоками – как-то не по сезону, но приятно. Тут Лилиана сказала, глядя вверх:
– А вот и папа… Привет, пап!
Высокий, несколько грузный, седой и усатый человек лет семидесяти в тапочках на босу ногу тяжело переступал со ступени на ступень, неукоснительно заходя с правой.
Одет он был в просторный, цветастый и неровно обрезанный понизу стёганый халат.
– Мой отец, – сообщила Лилиана. (Я мельком подумал, что по возрасту он вполне мог бы приходиться ей дедом.) – Василий Степанович Кондрашов! Прошу любить и жаловать.
– Добрый день! – подал Василий Степанович густой голос.
Одной рукой он держался за перила, в другой нёс большую керамическую кружку.
– А это Серёжа Николаев. Он писатель.
– Писатель? – удивился Кондрашов с явно преувеличенным восхищением. – Ну надо же!.. Разумеется!.. Пренепременнейшим образом!.. Так сказать, со всей искренностью!.. Отлично! Рад!..
Он тяжело ступил с последней ступени на паркет гостиной, поставил кружку на плоское навершие перил и стал одной рукой запахивать разошедшиеся полы архалука, одновременно протягивая другую для рукопожатия.
– Поговорите тут пока, – сказала Лилиана. – Сейчас вернусь, будем чай пить.
– Беги, доча, беги, – одобрил Василий Степанович. – Рад, рад! Так сказать, примите полностью… Со всем уважением!.. Давайте-ка вот сюда. Что мы тут как неродные, честное слово. Сейчас нам чего-нибудь спроворят… Прошу, садитесь. Так вы писатель? Интересно. Очень, так сказать, очень!.. Со всей душой! Как, вы сказали, вас зовут? Отлично! И о чём же вы, дорогой Сергей, пишете?
Кружку Василий Степанович поставил на столик. Сами мы сели на просторный диван, одинаково отвалившись в его кожаные углы и закинув руки (он левую, а я правую) на мягкую спинку, и принялись рассуждать о творческих проблемах.
* * *Узнать кое-какие подробности заранее не составило труда, достаточно было пошарить в интернете. Сообщалось, что в советское время Кондрашов В. С. снял восемь фильмов и долгие годы пользовался широкой известностью, занимая достойное место в ряду мастеровитых тружеников советского кино старшего по сравнению с ним поколения.
Затем Кондрашов В. С. погрузился в творческое молчание. Это и неудивительно: в начале девяностых, когда для многого открылись широкие творческие возможности, многое иное погрузилось в угрюмое молчание.
Название одной ленты в генеральном перечне произведений Кондрашова – «Солёный хлеб» – что-то мне смутно напомнило. Кажется, там было про рыбаков: Сахалин, МРС, кошельковые тралы, любовь героя к судовой поварихе, азарт работы. Судно попадает в ураган, сильнейший шторм задаёт экзистенциальную планку: спастись можно, но придётся вывалить за борт грандиозный, небывалый по меркам обыденности улов минтая. Парторг, поддерживаемый большинством команды, стоит за сохранение добычи. Лишь несколько отщепенцев во главе с антигероем (в начале картины этот хлюст нагло подбивает клинья к прельстительной поварихе) трусливо предпочитают рекордному минтаю спасение своей никчёмной жизни. В последний момент дело решает голос героя.
Финал благополучный: минтай сохранён, стихию удалось превозмочь, потрёпанный, но не сломленный бурей траулер подваливает к причалу с полными трюмами. Повариха и герой сливаются в многообещающем поцелуе, а за антигероем, подозреваемым в контрабанде жвачки, приходит милиция. Неплохой, в сущности, фильм, увлекательный, я в детстве с удовольствием смотрел и даже, как теперь оказалось, запомнил.
Но когда я нашёл картину на каком-то сайте, чтобы освежить в памяти, то первые же кадры обнаружили ошибку: лента Кондрашова В. С. «Солёный хлеб» была взглядом не на полную опасностей жизнь сахалинских рыбаков, а на будни ставропольских хлеборобов: горбушку присаливали не брызги свинцовых волн, а капли пахарского пота…
– Так о чём же пишете? Есть творческие проблемы? – спросил Кондрашов, улыбаясь одновременно и радушно, и озабоченно.
Радушие не требовало истолкований, что же до озабоченности, то её можно было объяснить разве что волнением за судьбу отечественной литературы, и я уже начал отвечать в этом ключе, когда Василий Степанович продолжил вопрос, заискивающе морщась:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

