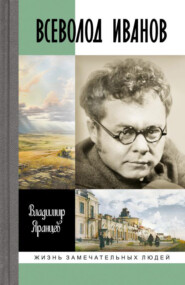
Полная версия:
Всеволод Иванов. Жизнь неслучайного писателя
Там семья поселилась у одной из сестер матери, «бедной» Фелицаты Семеновны, в ее доме на берегу Иртыша. Мать работает прачкой у второй, «богатой» сестры Фиозы, муж которой, дядя Иванова, Василий Ефимович Петров, устроил племянника в сельскохозяйственную школу. Судя по упоминанию автора романа – «мне тринадцать лет» – произошло это в 1908 г., если считать его годом рождения 1895-й. При этом летом учащиеся жили и работали за городом: «Я пахал, боронил, сидел на косилке, гонял волов в город за лесом…» После окончания он должен был стать «сельскохозяйственным техником». Проучился, однако, в школе Иванов всего год, и в 1909-м его «пустили» из нее. Там же, видимо, и зародилась его мечта о путешествии в Индию морем. В том же году он летом работает приказчиком с Кузьмой Македоновым, «зав. лавкой купца Лыкошина в поселке Урлютюп», что вниз по Иртышу. Надо было возить лес, «менять мануфактуру и галантерею на киргизское масло». По словам писателя, ему в это время 15 лет, значит, работал он приказчиком также год, до 1910-го. Ибо вскоре он уходит от Македонова (инцидент с порчей кожи на купеческом складе), и все тот же Василий Ефимович устраивает его в павлодарскую типографию В. Владычкина. Сначала работает вертельщиком, затем учится профессии наборщика, с помощью г. Злобина.
Осенью 1910 г. в Павлодар приезжает цирк А. Коромыслова, Иванов учится канатоходству, борьбе, но останавливается на амплуа «факира и дервиша», берет имя Бен-Али-Бей, под которым хочет начать свою цирковую деятельность. Иванов прощается с домом в Лебяжьем и отплывает на пароходе из Павлодара в Омск, откуда хочет «добираться до Индии сухим путем» уже. Отсюда и начинается череда скитаний Иванова, у которых можно наметить только маршрут, но которые четко не датируешь. «Буфетный юноша» в «подворье» при церкви, наборщик в епархиальной типографии в Омске. В Петропавловске в здании школы состоялось первое выступление Бен-Али-Бея с глотанием шпаги, шпильками и проч. Здесь же складывается коллектив из четырех человек: Иванов и его сверстник Петька Захаров, Пашка Ковалев и Константин Филиппинский, взрослый сочинитель скучных анекдотов. Затем они пошли к Шадринску и Кургану через село Мокроусово, где попытались в помещении школы показать спектакль по пьесе Иванова. В Шадринске, уездном городе Курганской губернии, в театре Вольного пожарного общества он должен был выступить с «куплетами на злобу дня» под именем Всеволод Савицкий, но по вине конкурентов не выступил. По дороге из Шадринска в Челябинск Иванов поссорился с «труппой» и ушел один, «обратно в Сибирь», чуть не став «божьим нахлебником», богомольным странником-нищим. В Кургане поступил в типографию Кочешева набирать газету «Курганский вестник», сказав, что прибыл из Самары. В свободное время «придумывал фокусы»: «говорящая голова», «револьверный выстрел», «птица с магическим голосом» и т. д. Разрабатывал свою факирскую «систему». Здесь появляется первая полная дата – «16 /XII 1912», запись в дневнике. Можно сказать, что здесь, в Кургане, в 1912 г. закончился первый этап двухгодовых скитаний Иванова, больше похожих на испытания выносливости тела и духа, не зря затем мемуаристы постоянно отмечали, описывая внешность Иванова, плечистость его фигуры, плотной, крепко сбитой.
1913 год оказывается самым оккультным, мистическим. Иванов продолжал собирать «Волшебную библиотеку», в позе «киргиза или индийца» размышлял или медитировал, обдумывал фокусы, голодал, гордясь своим воздержанием, вырабатывал «волю и терпение», пробовал «приучать себя к змеям». Часто все это происходило в лесу, на особой поляне, где его охватывало «серебряное очарование». Зимой выходил голый в ночь и в пургу на мороз до двадцати минут (иногда и до часу), чтобы достичь «просветленного состояния», проводил с другом сеансы телепатии. В мае 1914 г. Иванов с вновь обретенными друзьями едет на товарном поезде на Запад, по маршруту до Баку, но доехали только до Екатеринбурга. Точнее, до пригорода – Березовского завода, где на 25 мая назначили большое представление. Иванов там должен был выступить раусным антре-клоуном, т. е. разговаривающим с публикой перед очередным номером, также работал капельдинером и билетером. После провала предприятия и скитаний по окрестностям устраивается в екатеринбургский ресторан куплетистом, по сути, в «шантан» с девицами легкого поведения. Уйдя оттуда со скандалом (не понравились его куплеты), устраивается в типографию, откуда, тоже со скандалом (хозяин не выплачивал зарплату), перебирается в чаеразвесочную компанию сортировщиком чая. В эти же дни врач прописывает ему очки: «Вдруг из тумана предо мною всплыл очень четкий и ясный мир», и тут же покупает пенсне «на черной ленте». Покинув чайную компанию и столицу Урала, идет пешком в Ирбит: там 21 июля объявляет о своем выступлении – «факира и дервиша Бен-Али-Бея». Начало Первой мировой войны отменяет все выступления, их балаганная компания распадается, Иванов возвращается в Екатеринбург, откуда едет на поезде в Тюмень. После долгих поисков устраивается в типографию «верстать и корректировать экстренные выпуски телеграмм» с фронта. Вскоре был уволен за грубую ошибку при наборе. Пишет пьесу на тему начавшейся войны, но ее признают антипатриотичной, и полиция требует покинуть Тюмень «в 24 часа». В селе Преображенском неудачно выступил антре-клоуном на балаганном представлении. Ишим становится последним пунктом романного повествования, обрываясь зимой 1915 г., когда Иванов без работы и дома живет где-то в ночлежке, сочиняя план будущего романа.
Этот второй этап похождений Иванова (первый начался в 1912 г.) оказывается еще менее успешным, превращая мнимое путешествие в Индию из трагикомедии почти в трагедию. Ибо обнаруживается фатальная неспособность героя ловчить и обманывать, применять силу, наглость, беспринципность, чтобы выжить в мире социального дна. Эту пустоту непонятости, невостребованности, одиночества Иванову все чаще заполняет его отец, чьи письма настигают его почти во всех пунктах скитаний. Было ли так в реальности, неизвестно. А если нет, то учащающиеся воспоминания о нем, несомненно, обозначали тоску по своей малой родине, по Лебяжьему, Павлодару. И все-таки Иванов в родные места не вернулся. В отличие от отца, который, по сути, скитался постоянно, начиная с ранних лет работы на приисках. Но чаще у него были «скитания» духа, фантазии. Апофеоз его романтической фантазии, устремленной к путешествиям – история о «бессмертном» морском капитане Лянгасове и его попугае Худаке. Например, о плавании на остров Яву, когда Худак просит его передать «поклон» местным попугаям, и далее в таком же роде. Любил он в письмах пересказывать разные «истории» из газет – о политике, «техническом перевороте» (новые корабли, автомобили, аэропланы и т. д.) и прочую всякую всячину. Фигура отца во второй половине романа становится все ярче, колоритнее, самостоятельнее и оказывается способной конкурировать с главным автобиографическим героем. Это заметил учитель Иванова А. М. Горький, написав ему: «…очень хороши страницы, где Вы пишете отца, и, если б Вы отнеслись к этой фигуре более внимательно, – наша литература получила бы своего Тиля, Тартарена, Кола Брюньона. Именно так, я знаю, что не преувеличиваю».
Однако было еще одно «лицо», один «персонаж», не менее важный для Иванова, чем его уникальный отец. В отличие от отца, воплощавшего в себе все-таки не столько отдельного человека, личность, тип, сколько его малую родину – Лебяжье-Павлодар, в минуты огорчений, разочарований, бед, он вспоминал «о горькой участи бедного, несчастного Пима!». Или «Бедный Артур Гордон Пим! Несчастный Артур Гордон Пим!». Можно согласиться с комментатором романа Иванова Е. Краснощековой, что «мотив “бедного Пима”» возникает почти каждый раз, когда герой оказывается в тяжелом положении, испытывает страдания, становясь завуалированным призывом посочувствовать ему». Но, помимо этого, есть и другой, весьма важный смысл незримого присутствия произведения Э. По в «Похождениях факира», важность которого Иванов подчеркнул, сделав цитату из него эпиграфом к роману. Это попытки изобразить себя именно в биографическом романе. Но важно и то, какое произведение он цитирует. Второй эпиграф дает читателю подсказку, проясняя сопоставительный смысл цитаты – она из романа Ж. Верна «Ледяной сфинкс». В нем великий фантаст, весьма почитавший Э. По, решил продолжить внезапно обрывавшуюся «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима».
Чтобы не запутаться, надо отвлечься от того, что «Ледяной сфинкс» – роман фантастический. Потому что весь этот роман Ж. Верна построен на том, что произведение об Артуре Г. Пиме не фантастика, а записки реального человека, побывавшего в опасной антарктической экспедиции в районе Южного полюса. В плавании другой экспедиции по следам «пимовской» и выясняется, что Пим действительно существовал. Тем более что герои романа встретили спутников его плавания и, наконец, нашли его самого, вернее, его останки.
Калейдоскоп анкет. КарымА теперь давайте посмотрим на роман Иванова сквозь двойную призму этих романов Э. По и Ж. Верна, являющихся, по сути, записками путешественников. Ведь если отождествить героя «Похождений факира» с Пимом, что он и сам частенько делает, то автор романа, тоже Иванов, хочет, пытается, подобно Ж. Верну из «Ледяного сфинкса», доказать, что Всеволод / Сиволот эпохи сибирских скитаний 1910–1915 гг. был действительно таким и все происшествия, в том числе невероятные, были, существовали! Но только хочет доказать, а вот получится у него это или нет, он и сам не может понять. Ибо в одном интервью эпохи создания романа Иванов говорит, что твердо намерен в нем «рассказать настоящую, биографическую правду», сбросив «груз беллетристических навыков», приобретенный в начале 1930-х гг. А в «Истории моих книг» (далее – также «История») уже пишет, что «наиболее биографичен» роман «только в первой своей части», и весь он лишь «слегка автобиографический». Да и как иначе, если сами «Похождения факира», по словам писателя, должны были составлять единую трилогию с предыдущими романами «Кремль» и «У», где правил бал В. Шкловский и почти футуристический эксперимент. И все-таки к роману «Похождения факира» надо отнестись и как к достаточно серьезному источнику биографических сведений об Иванове. Об этом говорит и весьма требовательно о себе заявляющий биографический дискурс (при всем своем «захлебе», захваченности событиями и людьми, писатель не забывает ставить даты этих событий, вплоть до месяца и дня), и почти очерковая манера изображения персонажей (В. Е. Петрова, К. К. Македонова, Г. Заботина, владельца цирка), сыгравших важную роль в жизни Иванова. Есть фигуры, чья реальность кажется неполной, но придумать которые трудно. Это, во-первых, П. Захаров, главное «алиби» которого в том, что он павлодарец, курчавый, то есть с признаками метиса. Как у Э. По и Ж. Верна, в произведениях которых решающую роль сыграл индейско-американский метис Дирк Петерс. Именно Захаров нашел письменное послание учащегося павлодарского сельхозучилища Всеволода Иванова и, поддерживая его «волшебную» идею хождения в Индию, в то же время вовлек его в авантюру с балаганными представлениями и факирским трюкачеством.
Известные к настоящему времени автобиографии и анкета должны рассматриваться в неразрывном единстве с автобиографической канвой «Похождений факира». Автобиографизм беллетризованный, порой не хуже какого-нибудь рассказа. Так произошло с автобиографией Иванова 1922 г. (далее – А-1922). Можно согласиться с С. Поварцовым, что «автобиографического здесь мало», зато «очень (…) увлекательно». И затем строго судит писателя, что он «жутко кровавую трагедию» превращает «в смешной фарс, в приключенческую пустяковину». В доказательство исследователь приводит мемуары друга Иванова Б. Четверикова. Подавая ему книгу или журнал с напечатанной там А-1922, Иванов говорит: «Почитай-ка на сон грядущий автобиографию. Я тут малость приврал, но, по-моему, иногда полезно приукрасить, а то читать не будут». Однако речь тут идет о самом сложном и, может быть, ключевом моменте в жизни Иванова – 1919 годе. Тогда сознание и саму личность писателя вдруг постиг хаос и сумбур всероссийский, в котором каждый, по сути, оказался щепкой в водовороте событий. И то, что он счастливо – волшебно, по манию Горького – избежал гибели и безвестности, вызвало в нем на какое-то время настоящую эйфорию, отразившуюся на его творчестве и автобиографиях. Нельзя сбрасывать со счетов и роковой «фактор Сорокина», человека близкого Иванову склада, способствовавшего перевороту в творчестве писателя.
Самой первой по времени является анкета, датируемая июлем-августом 1920 г. Об интересующих нас годах здесь совсем мало. Но каждый пункт примечателен. В пункте «Возраст или год рождения» Иванов записывает кратко: «1895». Столь же кратко, но неверно указано место рождения: «г. Семипалатинск». Сознательная неточность. Возможно, Иванову просто не хотелось длинно писать: губерния, уезд, село Лебяжье. Комментаторы выдвигают правдоподобную версию, что Иванов устраивался на работу в омскую газету «Рабочий путь», редактор которой А. Оленич-Гнененко хорошо его знал и не придавал этой анкете серьезного значения. Далее Иванов ставит прочерк в пункте об отце, матери, сестре, брате и т. д. Но ведь мать-то была жива! Возможно, Ирина Семеновна не была столь привязана к сыну, как Вячеслав Алексеевич, который, по сути, задал «матрицу» жизни сына на долгие годы вперед, передал ему свой горячий темперамент, стал ориентиром в предпочтениях умственных и творческих. Со слов сына Вс. Иванова – Вячеслава Всеволодовича – известно, что они совместно переводили Коран и весьма преуспели в этом. Потому и путь в Индию как вектор географический и духовный мог быть плодом совместных дум и чаяний.
В пункте об образовании Иванов пишет, отвечая на подпункт: «С(ельско) – Х(озяйственная) школа». «Где и когда» и на кого учили – пропущено. Владеет только русским языком и является «литератором». Но из «Похождений факира» мы знаем, что Иванов знал казахский язык (см. в романе казахский стих для дочки султана), и основной профессией его до 1920 г. была «наборщик», «типографский рабочий». Крайняя скупость ответов по дореволюционному периоду несет на себе отпечаток тех лет, когда новая власть могла придраться к любой детали биографии. Но вряд ли кто тогда мог так глубоко копать. Другое дело, репутация монархиста у отца в годы Гражданской войны. Тут Иванов имел основание молчать. Через два года, в 1922 г., появляется первая автобиография, где отец уже «Из приисковых рабочих», с «пролетарским происхождением»; «самоучкой сдал на учителя сельской школы». Подчеркнул его талантливость, самородность – все пока в «плюс». А вот и «минус»: «Но учил, особенно меня, мало, все больше по монастырям и по бабам ходил. От водки сошел с ума, немного оправился», а через семь лет, когда после разлуки, в 1918 г. «приехал повидать» его, был «нечаянно» застрелен младшим братом Всеволода Палладием из дробовика. Пройдя через мытарства, герой, согласно «Истории», не возвращается в Курган, Омск или Павлодар, а направляется в Индию и почти добирается до нее. Но через границу его не пустили: необходим был заграничный паспорт.
В автобиографии 1925 г. (далее – А-1925) Иванов только добавляет подробности: из Павлодарского училища ушел из-за воровства заведующего, из приказчиков «хозяин прогнал» его за то, что не умел «надувать степных киргизов», а учителем в цирке был не курганец Галимов, а итальянец. Другая деталь: у него не все получалось в цирковых делах, потому что в раннем детстве он сломал руку. Есть и другие дополнения: оказывается, он мечтал стать еще и астрономом и выписал «из Германии трубу за двадцать пять рублей» – огромные для него деньги! А цирк был для него работой сезонной, т. е. служил там только летом, когда «в типографии работать трудно». Получается, что основной работой Иванов считал для себя все-таки типографскую, а цирк и факирство были чем-то вроде хобби. Кажется, что биография Иванова, сколько мы о ней ни говорили, все еще только в самом начале, и никак не может сдвинуться с места. Настолько неисчерпаем кладезь каких-то взаимоисключающих, противоречащих друг другу событий. А позже он принимал несбывшиеся планы, проекты, вымыслы за свершившийся факт. Не для того, чтобы улучшить биографию, а просто показать лучшие, желаемые ее варианты и возможности. Будь по-другому, не явился бы в автобиографии 1927 г. (далее – А-1927) китаец Син-Бин-У, который «научил (…) искусству факира». Вариант № 3, после предпринимателя из Кургана и итальянца, китаец с фамилией персонажа из «Бронепоезда 14–69» и «Иприта».
Нет, не хотел Иванов заурядной жизни, банальной биографии с самого ее начала. Хотя земля, почва, на которой он родился, казалось бы, склоняла к этому. А край этот, что с. Лебяжье, что Павлодар или Омск, был краем особым – «Горькой линией», славным местом сибирского казачества, взросшего, укрепившегося, создавшего свое войско, традиции, целые станицы и города в течение почти трех веков. Росло и крепло это казачество, от Тобольска и Оренбурга до Семипалатинска и Кузнецка в противостоянии кочевым народам – джунгарам и особенно казахам-«киргизам». Причем вражда эта не затихала вплоть до революции, и часто именно казаки, кичившиеся своей «цивилизованностью» перед «дикими» и «немаканными» «инородцами», были источником непрекращавшихся стычек, перераставших в восстания против завоевателей и колонизаторов, пришедших на исконные земли, помешавших их свободной, вольной жизни, занявших их угодья и кочевья. Иванов с юных лет все это видел и понимал и потому в казаки явно не стремился, хотя отца и мать числил по казачеству.
Но не лучше ли было бы, если бы Вячеслав Алексеевич происходил от П. Семенова-Тяншанского или Н. Пржевальского, чтобы бредить не военными доблестями, а славой землепроходца? Отец Иванова, несомненно, был одержим и этой сибирско-азиатской темой путешествий-открытий. Иначе не назвал бы своих сыновей столь экзотическими для того времени именами, схожими с именами известных ученых-путешественников. Так, имя Палладий, помимо уже упомянутого нами Э. По, его стихотворения «Ворон» и звучащего там имени Паллады, с той же вероятностью он мог взять и у видного исследователя-китаеведа Палладия Кафарова. Тот составил грандиозный китайско-русский словарь, где «было приведено и объяснено 11. 868 иероглифов». Не чуждый словарям (вспомним о его штудировании учебника арабского языка), отец Иванова вполне мог знать этот труд, изданный в 1888 г., т. е. незадолго до рождения его сыновей. И еще интереснейшая деталь, совпадение с Э. По: П. Кафаров «установил, что маньчжуры “почитают воронов, видя в них предков”». «Подобный культ воронов, как известно, существовал у индейцев Аляски» (С. Марков). У Э. По, правда, ворон – «птица, предвещающая зло» и смерть, но у всех этих представлений корень один – мифология. Как в некотором смысле мифологична и наша версия источника имен для сыновей Иванова-старшего.
Есть кое-что и по поводу «Всеволода». Неужто тоже взято у какого-нибудь известного китаеведа? Все-таки Сибирью, Азией и Евразией Вячеслав Алексеевич интересовался больше, чем американскими писателями. Имя же у Иванова-младшего достаточно редкое и уж явно не казачье. Откроем, например, роман И. Шухова «Горькая линия» о тех же примерно временах, в которые проходили детство и юность Всеволода. Спирька, Кирька, Трошка, Архип – то и дело встречаем мы на страницах романа. Знаменитого Н. Пржевальского знали тогда все и, наверное, знали имя его ученика и сподвижника Всеволода Роборовского. После смерти Н. Пржевальского он совершил большое путешествие-экспедицию в Восточный Тянь-Шань и прилегающие местности Тибета и Китая. Он прошел «шестнадцать тысяч верст, истратив на это тринадцать месяцев, собрал (в 1893 г.) огромную коллекцию животных, растений и их семян, образцов полезных ископаемых» (С. Марков). Так, предполагаем мы, назвав своего первенца именем славного землепроходца, не мечтал ли отец, что его Всеволод станет похожим на Роборовского, прославит и его, отца, и себя? Но Иванов избрал другой путь, и его путешествия по казачьим местам «Горькой линии» были не ради «огромных коллекций» и географических открытий, а странствием в поисках себя. Не зря он менял свои имя и фамилию, называл себя Бен-Али-Беем, Бедным Пимом, Савицким и, наконец, через несколько лет – Таракановым («Тараканов» – так он подписал свою первую книгу «Рогульки»). А простые люди звали его на свой лад – «Сиволот». Так что стать новым Потаниным, Пржевальским или Роборовским ему не было суждено. Да и маршрут его гипотетический лежал не в «Мекку» великих географов – Китай, а в Индию, страну факиров и чудес.
Вместо проторенных путей на выбор – стать линейным казаком, сельхозработником, учителем или все же знаменитым географом-этнографом и т. д. – Иванов вступил на стезю человека искусства, художника слова, пройдя через тернии балаганного циркачества и переступив через связанную с ней профессию типографского наборщика. А вместо волшебной Индии с ее экзотическими индийцами он получил бесценный опыт общения с казахскими аулами и казахами-«киргизами». Народ этот имел свои достоинства и свою историю, свой особый уклад жизни, характер, нрав, вид. В толстом томе из «Полного географического описания нашего Отечества», посвященного Туркестану и изданного в Санкт-Петербурге в 1913 г., как раз в год странствий Иванова, дано описание антропологических признаков «киргиз-казаков»: «Роста среднего (164 см), с хорошо развитой грудью; руки и ноги небольшие, телосложение крепкое, в старости склонные к ожирению; цвет кожи желтоватый; голова почти круглая, брахицефальная; волосы черные, прямые и жесткие, седеющие поздно; лицо широкое, скуластое (…); нос широкий, слегка приплюснутый». А вот признаки уже нетелесные: «Киргизы одарены хорошими умственными способностями, и учение дается им нетрудно (…). Способность к восприятию внешних впечатлений, в особенности же к запоминанию событий, людей и природы у киргизов весьма значительна, усвоение же отвлеченных понятий дается им гораздо труднее. Киргиз отличается живым, общительным и веселым характером; он находчив, сообразителен и сравнительно честен, но лукав и хитер». Он добр, гостеприимен, уважает стариков, но с другой стороны, ему присущи «любопытство, беспечность и склонность к лени, бражничеству и сплетням». Да и как иначе, если слово «казак» обозначает «бесприютных, вольных людей», и стали они отдельным народом, откочевав от родственных им «узбекских народов» (есть даже предание о происхождении казахов от узбеков).
Выходит, что «казак», «киргиз-казак» («кайсак») отличается от русского казака только своим тюркским происхождением и внешностью. По характеру же и ментальности казах и русский – оба казаки, только казахи еще не отвыкли кочевать, «их еще мало коснулась цивилизация, они ближе к природе – степи и небу и населяющим их живым и вымышленным их фантазией существам». Существует даже легенда о происхождении названия их народа от белой гусыни Каз-Ак, которая напоила и воскресила к жизни смертельно раненого героя Колчан Кадыра, и от их брака произошло «великое потомство», названное в честь нее казахами. Причем персонаж романа И. Шухова «Горькая линия» пастух Сеимбет настаивает на том, что они именно казахи, а не киргизы, как называют их русские. Поэтому, читаем далее в книге 1913 г., «дикость и безграмотность не отменяют поэтичности казахов. Отличительной чертой казаха является любовь к поэзии и умение излагать свои мысли не только ясно и изящно, но и красноречиво. Отсюда развитие устной народной литературы, отличающейся богатством и разнообразием и слагающейся из пословиц, загадок, поучений в стихах, песен различного характера (…), заклинаний, легенд, сказок. Сказки чрезвычайно многочисленны и разнообразны по содержанию; обычными действующими лицами в них являются ханы, их приближенные, ведьмы, оборотни, змеи, медведи, лисицы, волки и другие животные, обладающие сверхъестественными свойствами». При этом фольклорные произведения, «как правило, не рассказываются, а поются», они «просты и безыскуственны».
Случайно ли поэтому, что Иванов начал именно со сказок и стихов. И, если верить роману «Похождения факира», одним из первых стихов, сложенных пятнадцатилетним Всеволодом, были стихи на казахском языке, посвященные казахской красавице Нюр-Таш, дочери степного султана. В таком вот виде, в оригинале, они и приведены в романе: «Кыздарай учун Юртуп нан базарнан…» и т. д. То есть: «Ради девушки ездил я в Урлютюп на ярмарку…». Причем девушка эта, как мы помним, первая призналась в любви, а сам он отметил их сходство, почти антропологическое: «лунообразное лицо, коротенькие ручки, серые глаза, окаймленные припухшими веками; впрочем, на киргизский вкус я тогда был красив». Но если у Иванова было чувство сходства с казахами физическое, то должно было быть и ментальное. Вспомним: «хорошие умственные способности», «общительный, веселый характер», находчивость, сообразительность при «сравнительной честности», лукавстве и хитрости. И еще доброта, любопытство, беспечность, лень, готовность к передвижению на любые расстояния. Разве все это нельзя отнести и к Иванову и разве все это не отражено в «Похождениях факира», отчего мы, несмотря ни на что, верим в автобиографичность этого произведения?



