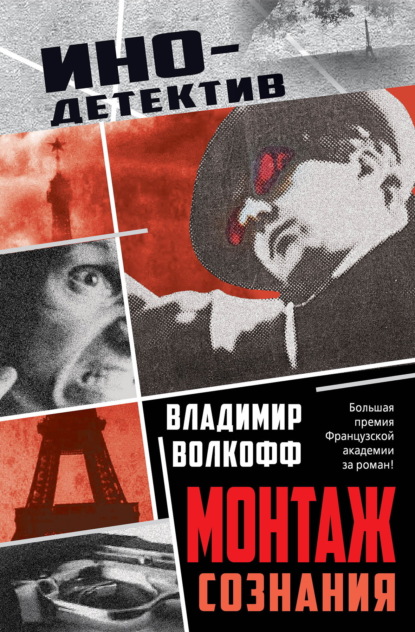
Полная версия:
Монтаж сознания
Найти работу? Тогда как война была проиграна по вине всяких грязных иностранцев? Нет уж, не выйдет! Все же нужно было как-то прокормиться, а, главное, кормить юного Александра. Оставался один выход: последовать примеру множества коренных жителей и принять предложения оккупационных властей. Но от него к горлу бывшего лейтенанта подступала тошнота.
Есть две категории русских людей: одни восхищаются немецким порядком, породившим Гете и Круппа, другие питают к нему, со времен Александра Невского, живейшее отвращение. Дмитрий Александрович, к несчастью своему, принадлежал ко второй категории: для него служить немцам означало предать миллион семьсот тысяч убитых во время Первой мировой войны и сотни тысяч других, убитых в течение предыдущих веков крестоносцами или вспомогательными войсками Наполеона. И все же он лишний раз подчинился необходимости. Он знал немецкий, следовательно, к нему хорошо относились и ему платили тройную зарплату. Но он был из тех, для кого нравственное неудобство более пагубно, чем материальное. Два года, во время которых он водил немецкий грузовик, были самыми гиблыми в его жизни. Одно светлое пятно: он систематически отказывался от более выгодных или почетных предложений – он мог стать переводчиком, писарем, устроиться в разведке. Он мог бы даже нарядиться в зелено-серое обмундирование (а что, оно, право же, шло к лицу) и вернуть, пожалуй, свое звание. Но он от всего этого упорно отказывался. Эмигрант себя компрометировал, но лейтенант российского императорского флота оставался непорочным, как икона.
После Освобождения всего этого ему не зачли. Администрация оказалась в руках людей, взявшихся за оружие за день до победы. У них не было иного доказательства патриотизма, кроме свирепости. Другие же, действительные герои, среди которых многие были коммунистами, навязывали Франции лихорадочный медовый месяц с СССР: в этих условиях жизнь белых эмигрантов была едва выносимой. Всякий апатрид, бывший на жаловании у врага, всячески притеснялся, он был удобным козлом отпущения для нации, совершившей высший грех: сомнения в себе.
Для Дмитрия Александровича положение стало прямо невыносимым. Административные преследования, с одной стороны, безработица – с другой. И время от времени булочник на углу его окликал:
– Возвращайся к себе, грязный русак.
Мысль сделать именно это, да, это, вернуться на родину, не дожидаясь веления провидения, а – по собственному решению, стала обретать форму в мозгу Дмитрия Александровича. Нигде он не будет таким бедным, нигде его не будут так донимать, как это делают здесь. И когда в диспансере один врач открыл ему, что тело его истаскано, что клетки организма отказываются ему служить, к горлу подкатила ностальгия, по силе своей превосходящая всю ранее испытанную им тоску по отечеству. Он тихо потрепал сына за щеку и сказал:
– Мы возвращаемся.
Александр, по обыкновению своему молчаливый, не ответил.
У Дмитрия Александровича не было иллюзий. Он не надеялся вновь найти «блестящий Санкт-Петербург» своего детства. Но зато он будет слышать кругом родной язык и родная земля покроет его останки, когда он отдаст душу.
– Даже красные не могут мне этого запретить.
И кстати, существовали ли еще эти красные? Невозможно было вовсе отказать в законности государству, с такой славой разгромившему захватчиков. Независимость более ценна, чем свобода. Да и слово свобода никогда не воодушевляло бывшего лейтенанта. Он происходил из рода, для которого слава была синонимом служения: стремление к свободе казалось его предкам и ему идеалом раба. А если там не было частной собственности, то что же – без нее Псарь легко обойдется: для него было важнее принадлежать стране, чем обладать в ней чем-либо. Каким облегчением будет сжечь этот ничейный паспорт, носящий название Нансеновского! И Александр вырастет в своей стране, научится служить ей, даже в кадетском корпусе – он вновь появился под названием Суворовское училище.
Странной была для Дмитрия Александровича его первая встреча с «товарищами». Когда он нажимал на кнопку звонка советского посольства, ему казалось, что мир должен взорваться, как если бы частица материи столкнулась с частицей антиматерии. Но мир не взорвался, и советские показались эмигранту более или менее нормальными соотечественниками.
Позже он рассказал своим настоящим товарищам, корнетам и лейтенантам, которым было уже под пятьдесят:
– Знаете, нет у них ни рогов, ни раздвоенных копыт.
Но что его удивило, это встреченное им у «товарищей» бюрократическое высокомерие, открытое ощущение превосходства… Ему дали понять, что речь идет не о примирении, а о прощении. А чтобы его заслужить, он должен был униженно покаяться, признать свои ошибки, и не только политические. Манеры его, например, указывали на степень его упадка. Однажды, перелистывая том Ленина, Дмитрий Александрович привычно послюнявил палец, и немедленно на него уставились орлиный нос и угрожающие очки учителя «катехизиса»:
– Никогда больше этого не делайте. У нас это признак плохого воспитания.
Но прежде всего он должен был заполнить страницы и страницы формуляров анкеты. Он должен был не только исповедаться во всех своих грехах против советского правительства, но составить полный перечень всех своих родственников без исключения и написать их биографии. Он приуменьшил свои подвиги и заявил, что все его родственники умерли. Навязчивая идея всех возвращенцев – не повредить тем, кто нашел способ выжить там – пришла и к нему.
Он просыпался по ночам:
– Должен ли я был двоюродного брата Алешу объявить мертвым или вовсе не упоминать о нем?
Затем наступил период реабилитации. Прошедший исповедь и как будто прощенный, блудный сын должен был теперь приобщиться к доктрине.
Были организованы вечерние курсы, на них эмигранты встречались, едва осмеливаясь глядеть друг на друга, три раза в неделю. Они давились лекциями о преступлениях царя и заучивали наизусть «учение» Маркса, Энгельса, Ильича и, разумеется, самого великого гения, величайшего полководца, философа, экономиста, самого великого вождя всех народов и всех времен, того, чье имя-отчество произносилось со смесью заискивающей нежности и почтительной мужественности: Иосифа Виссарионовича. Само собой, нельзя было и помыслить подойти к этой литургии хотя бы с йотой юмора: революционность прежде всего серьезна.
Не обладая экономическим образованием, не ощущая никакой привязанности к интересам или добродетелям буржуазии, Дмитрий Александрович смог сдать, не покривив душой, часть экзаменов: он с удовлетворением перечислил советских маршалов и их победы, он с волнением в голосе рассказал о Сталинградской битве. Но ему пришлось серьезно взять себя в руки, чтобы произнести под требовательным взглядом из-за очков учителя катехизиса слова «Николай Кровавый» и даже «Ленинград». Другие кандидаты слушали, не глядя, в тишине разделенного стыда. Затем наступил их черед клеймить «банды белогвардейцев» и «разнузданных бандитов контрреволюции». Под занавес спели хором «Катюшу»: это было советским, но не коммунистическим, это была героическая песня, сентиментальная, в общем, русская. После все почувствовали себя лучше, будто побывали в бане.
Если Дмитрий Александрович рассчитывал ценой столь малых усилий получить паспорт и объявить французам, что теперь у него тоже есть страна, правительство, посол, то он ошибался. Он должен был теперь доказать свою искренность. По воскресеньям утром он шел уже не в церковь, а на пропагандные фильмы типа «Клятва», специально показываемые в одно время с церковной службой. Он участвовал затем в организации балов в честь Октябрьской революции, произносил тосты в память Ильича и за здоровье самого великого среди великих. Он даже заставил себя произнести по-советски слова «автобус» и «библиотека». И он думал, что, вот, еще одна жертва, и он сможет сесть в заветный поезд. Вернуться.
Наконец он был вызван тем же учителем коммунистического катехизиса:
– Мы теперь убеждены, гражданин, что вы являетесь истинным сыном нашей советской Родины.
Зеленый паспорт лежал тут рядом, на столе. Дмитрий Александрович смог взять его в руки, проверить печати, фотографию, подписи.
Современное написание его имени-отчества еще раздражало, но это было не так важно; впрочем, он уже привыкал – ведь приходилось же ему, заполняя анкеты, все время вычеркивать твердые знаки и русские.
– Спасибо, спасибо!
Он вновь чувствовал себя настоящим человеком. Он выйдет на улицу Гренель с гордо поднятой головой:
– Месье полицейский, я – советский гражданин.
Быть гражданином было для него теперь лишь немногим менее почетно, чем подданным.
– Когда я вернусь?
Учитель катехизиса, видя, что Дмитрий Александрович не хочет выпускать из рук паспорта, слегка потянул к себе зеленую книжечку:
– Это мы покуда оставим здесь.
Он встал и положил паспорт на одну из полок вделанного в стену сейфа.
– Конечно, вы вернетесь, но пока вы более нужны нашей советской родине здесь. Вы знаете французов, вы привыкли к ним, они – к вам.
Дмитрий Александрович не сразу понял, что убили его мечту, он уцепился за «конечно» и «пока». Не отводя упорного взгляда своих до времени постаревших глаз от покоившегося в глубине сейфа зеленого пятнышка, он взмолился:
– Но… паспорт… Дайте его мне.
– Для чего?
– Я не могу жить во Франции без удостоверения личности.
Это было не единственной причиной: он хотел, преисполненный нежности, унести эту книжечку к себе, чтобы поцеловать ее в одиночестве, чтобы сохранить доказательство того, что он вновь стал самим собой.
Учитель катехизиса ответил, строго блестя стеклами своих толстых очков:
– Ничего. Вы не скажете французам, что стали советским гражданином. Будете продолжать пользоваться нансеновским паспортом.
Видя, что сердце бедняги обливается кровью, он добавил, быть может, сообразив, что так выгодней, а быть может, из жалости:
– Именно так вы сможете лучше всего служить нашей советской Родине, которая, несмотря на ваши ошибки, открыла вам свои объятия.
Дмитрию Александровичу не суждено было долго жить, и никто не попросил у него оказать какую-либо услугу советской родине. С того времени его рак стал прогрессировать с удвоенной скоростью. Он никогда не был пьяницей, а тут стал вдруг пить, словно хотел себя доконать. Он был поочередно ночным сторожем, мойщиком посуды, грузчиком, дворником – терял свою работу, находил только временную. Теперь, зная, что не вернется, он хотел лишь одного: быть похороненным на кладбище в Сент-Женевьев де Буа, где гниет столько русских останков, что земля стала по праву считаться русской. Корнеты и морские лейтенанты, теперь пятидесятилетние, скинулись, чтобы – они осудили предательство, но не предателя – осуществить последнюю волю своего однокашника.
Дмитрий Александрович, лишенный ухода, умер в больнице – в тот день бастовали сестры.
– Я не вернусь. Но ты, Алек, вернешься вместо меня.
Это были его последние слова. Он поднял руку, чтобы погладить щеку Алека, но уже не хватило сил.
Отпевание состоялось в кладбищенской часовенке. Тот июнь был очень жарким, и священник положил в кадило побольше ладана. Спели «Вечную память», «Со святыми упокой» и «Коль славен» – отпевали ведь военного. Гроб был спущен в могилу на одолженных одной старой генеральшей вышитых полотенцах, так что пришлось ей их вернуть и, вопреки обычаю, полотенца не достались могильщику… да и что он с ними бы делал? Посыпались, ударяясь о гроб, земляные комья.
Белокурый Александр Дмитриевич, чураясь всех, наблюдал за происходящим с подчеркнутым равнодушием. Друзья отца испытали к сыну скорее недоверие, чем симпатию: он тоже подал прошение о репатриации, он тоже неустанно посещал посольство – не был ли перед ними настоящий большевичек? Женщины, напротив, с нежностью смотрели на худое его лицо с помятыми веками, на юношескую шею, которую не скрывал открытый ворот белой рубашки (Дмитрий Александрович терпеть не мог галстука – сугубо гражданского украшения). Поверх рубашки на нем был пиджак из голубого полотна, презент обеспеченного родственника или, возможно, какого-нибудь благотворительного учреждения.
– Сколько ему может быть лет?
– Девятнадцать. Но выглядит, бедняга, моложе.
На похоронах присутствовал некий молодой человек, которого как будто никто не знал. На круглом лице сидели добродушные круглые очки. На нем были коричневый пиджак, коричневато-серые брюки и неуклюжие башмаки. Когда Александр вышел с кладбища и отказался ждать со всеми автобус, предпочтя прогуляться по солнышку до вокзала, – к нему подъехала машина. Раскрылась дверца:
– Садитесь. Я вас подвезу.
Это был тот самый молодой человек.
Александр мгновение колебался. Затем подумал, что это приглашение является, вероятно, вежливо сформулированным приказом.
– Спасибо, Яков Моисеевич.
И он сел в машину.
Детство Якова Моисеевича Питмана было убаюкано рассказами о спасающих революцию доблестных чекистах. Без них белые бы победили. Поэтому Яков мечтал попасть на работу в Комиссариат внутренних дел: он думал, что только там принесет больше всего пользы партии и отчизне.
Яков Питман помнил, что он еврейского происхождения, но для него это имело не большее значение, чем если бы он был татарином или грузином. Он гордился принадлежностью к стране Пушкина, Чайковского и Петра I. И он обожал русский фольклор, был способен проникновенно исполнить «Средь шумного бала…» или пуститься в бешеную присядку. Не то чтобы он отрекся от своих родителей, которых, напротив, нежно любил, просто считал их заботы безнадежно устаревшими: Яков вне дома уплетал свинину без всяких угрызений совести, даже с подчеркнутым удовольствием. Как чеховские персонажи, он всей душой призывал век, в котором люди будут любить друг друга и будут счастливы, и обладал, в отличие от Чехова, тем преимуществом, что знал – этот век наступит завтра.
Механизмом, приближающим на всех парах это будущее, была партия, и Яков испытывал к партии доходящую до слез нежность и признательность. Это благодаря партии родина станет самой могущественной и благородной державой мира, уже сейчас советский народ в едином порыве строит справедливое и светлое будущее. Естественно, Яков хотел быть в первых рядах этих строителей.
Ничто не противоречило тому, чтобы он был взят под опеку органами, предпочитающими набирать людей среди молодежи, будущее которой всецело б от них зависело. Моисей Питман был простым портным, как и его отец; мать и бабушки также принадлежали к скромным семьям Бердичева: анкета, охватывающая два поколения, выявила, следовательно, более или менее здоровое пролетарское происхождение. В то время быть евреем было скорее гарантией, чем изъяном. И один дядя-революционер явно не портил биографии. Короче, после окончания университета Яков Питман был принят в спецшколу в Белых Столбах, где два года учился, в основном, премудростям контрразведки. Благодаря знанию французского он был затем направлен в 5-й отдел. Война только закончилась, и его послали на работу во вновь открывающееся в Париже посольство. Яков был полон энтузиазма: он будет работать, не покладая рук, чтобы Франция стала братской СССР страной, столь же свободной и счастливой. Разумеется, младшим братом, которого старший будет направлять для его же собственного блага.
Несмотря на свои благие намерения, через год лейтенант Питман оказался на краю бесчестия и высылки.
Вначале, хотя он попал в среду карьеристов и развратников, все шло хорошо. Он был поставлен под начало офицера, занимавшегося возвращенцами – дегенератами, наркоманами, бывшими палачами, врангелевцами, колчаковцами: как все-таки была милосердна советская власть, что дала амнистию этим пособникам реакции! Питман, впервые встретившись с настоящим князем, ощутил одновременно робость, отвращение и, по счастью, жгучее любопытство. Он ожидал увидеть людоеда, сверхчеловека. А князь О. оказался горбуном, деликатным, бедным, как Иов, не наркоманом и уж явно за свою жизнь никого даже не высек. Воплощенное зло не всегда представлялось, как раньше думал Питман, в очевидно-понятных чертах. Но он был готов и хотел учиться. Он обладал быстрым, восприимчивым умом, а, главное, интуицией. Скоро ему приказали начать среди возвращенцев поиск будущих сексотов.
Действительно, амнистия преследовала не чисто гуманную цель – многие возвращенцы никогда не вернутся, они останутся во Франции и будут своей массой прикрывать тех, кто получил определенное задание. Одной из лучших находок Питмана оказался бывший участник Сопротивления, сестра которого занималась распадом атома: не могло быть и речи о том, чтобы дозволить таким людям вернуться – таких легальных нелегалов можно со временем поднять до важных в этой стране постов. Но чтобы усыпить бдительность французов, нужно было оставить более или менее медленно подохнуть в изгнании стареющих таксистов, разных старых цыган, мудрецов-теологов, для которых все равно не было места в Советском Союзе.
Питману удалось отобрать нужных людей, и, желая дать ему возможность совершенствоваться, пройти через все отделы разведки, резидент перекинул его в другой сектор, где Питман оказался под началом сизоносого старого чекиста, о подвигах и палаческом мастерстве которого говорили за пятидесятиграммовыми рюмками водки.
Первым заданием Питмана было участие в похищении среди бела дня в Париже одного бывшего полковника императорской армии, который, как только закончилась война, попытался возродить РОВС, находившийся до войны под командованием сначала Кутепова, затем Миллера. Этот старик не был особенно опасным, но чекистские традиции этого требовали: РОВС должен был быть обезглавлен, Правда, на этот раз не было нужды прибегать к сложной операции: французы молчаливо дали свое согласие; оставалось взять полковника, как берут людей в Москве или Горьком, предпочтительно ночью, когда температура тела наиболее низкая, а следовательно, способность человека к сопротивлению наиболее незначительная. Совесть не беспокоила Якова Питмана, когда он садился во взятый напрокат автомобиль. Полковник был всего лишь смутьяном, но все же мешал; он, без сомнения, лет 25 назад вешал пленных красногвардейцев; нужно было помешать ему продолжать сеять смуту там, где будет скоро, совсем скоро земной рай. Полковник никогда не был советским гражданином, поэтому французам было неприятно выдавать его открыто, но закрыть глаза, пока его хватают, это было нормальненько – зря, что ли, воевали вместе против немцев?
Питман нажал на дверной звонок. И в ответ на его молчание – вежливо постучал фалангой указательного пальца правой руки в облезлую старую дверь – четыре раза и снова четыре раза. Чекист дышал ему в затылок водочным перегаром. Одного человека он оставил для страховки на четвертом этаже, другого послал на шестой, где тот мог, наблюдая за происходящим, прийти на выручку в случае возникновения трудностей. А их не должно было быть: консьержка хорошо относилась к русскому господину, который всегда вытирал ноги, прежде чем подняться к себе, вдобавок ее муж, партизан-коммунист, ставший теперь полицейским, обещал в случае чего ее успокоить.
Чекист сказал:
– Если будешь так царапаться в дверь, он подумает, что ты пришел клянчить десять франков, которых у него нет.
И он сильно ударил в хлипкую дверь кулаком, а затем ногой.
Вдруг Яков ощутил перед собой как бы разверзшуюся пустоту. Дверь же по-прежнему была заперта. Он так и не узнал никогда, откуда пришло это ощущение: может, сквозняк?.. Панический голос мужа консьержки уже раздавался на лестнице:
– Товарищ! Месье! Капитан! Случилось несчастье.
Когда Яков увидел на тротуаре это нечто, этот человеческий блин с волосками на подбородке, сломанные ноги, пробившие мясо кости и залатанную пижаму, – он отшатнулся, и его стало открыто, безостановочно рвать.
Чекист сказал-выплюнул:
– Дохляк! Баба!
Прекратив оскорблять своего заместителя, он молча уставился на него в упор, бросая время от времени взгляды на своих помощников, словно звал их в свидетели. Муж консьержки стоял сзади, качая головой; он инстинктивно чувствовал жалость и вместе с тем ощущал в себе нервный смех при виде распластанного «шута горохового» с козлиной бородкой, но сильнее всего было глубокое разочарование: русские товарищи всегда побеждают, а тут, оказывается, дали такого маху. С этого момента его вера в марксизм резко пошла на убыль: два года спустя, настигнутый благодатью, он пошел на мессу и начал голосовать за правых.
Чекист дал мстительный отчет: операция не удалась по вине лейтенанта Питмана, так долго стучавшего в дверь, что объект успел выброситься в окно. Последующее поведение лейтенанта доказывает, что причиной ошибки было отсутствие храбрости. Так, со дня на день Питман, которому, казалось, все улыбалось в жизни, постепенно оказывался на дне. Ему более не пожимали руки и, когда он входил, отводили глаза. Все знали: дело в бюрократической волоките – он будет наверняка изгнан из знаменитого первого отдела, быть может, вообще из ГБ. Под голубыми околышами не должно быть трусов. Когда Питман осторожно попросил объяснений, ему не разрешили прочесть отчет – резидент прямо посмотрел ему в глаза:
– На твоем месте, Питман, мне было бы стыдно. Я бы таился, не ходил бы вот так…
И ему стало стыдно, ибо Госбезопасность, вдохновленная непогрешимой партией и величайшим учением, не могла ошибиться. И он тушевался, страдая от презрения со стороны товарищей. Да и ничего другого ему не оставалось делать: работы ему больше не давали. Нужно было ждать отзыва на родину.
Самолюбие Якова Моисеевича Питмана было ранено, его стремление служить, все, что составляло смысл его жизни, казалось, погибло: он знал, что, работая в ГБ, можно допускать ошибки – они будут покрыты; но его обвинили в простой слабости, следовательно, по-настоящему не признали своим и поспешили списать за ненадобностью. Так же терзала его любовь – ведь Эличка продолжала посылать ему полные надежд нежные и страстные письма: мог ли он допустить, чтобы любимая за него краснела? Он думал о разрыве с ней, думал и о самоубийстве.
Но однажды дневальный, который, когда Питман оказался в опале, не осмеливался на него и взглянуть, подошел к нему:
– Вас просит товарищ Абдулрахманов.
Абдулрахманов, огромный человек с конусообразной головой, был прозван сотрудниками посольства Сталагмитом не только из-за чрезмерно высокого роста, но и потому, что казался скорее чудом природы, чем человеком. Кличка не удержалась, как-то нечем было ее питать: последнее время сотрудники вообще избегали о нем говорить, словно любое напоминание о нем могло вызвать катастрофу.
Абдулрахманов был, вероятно, гебистом. Но к какому отделу он был приписан? И каковым был его пост? Тайна. О нем никому ничего не было известно – вплоть до звания. Он одинаково откликался на «товарищ капитан» и на «товарищ генерал». Он всегда работал в нерабочие часы, рылся во всех кабинетах, в том числе и в посольском – у него бы ли ключи от всех дверей и всех столов: данные ему кем? То его считали человеком самого Берии, то партийным сановником, отчитывающимся в своих действиях только перед Иосифом Виссарионовичем. Он никогда никому не сделал ни одного угрюмого замечания, но всегда распространял вокруг себя ужас. Быть вызванным к нему означало для человека, попавшего в положение Питмана, приблизительно то же самое, что для приговоренного к высшей мере быть внезапно разбуженным до рассвета.
Получив разрешение войти, Питман стал в несколько неуклюжую стойку смирно на пороге пустого, банального кабинета, в котором явно никто много не работал. Он ожидал услышать солдафонский рев или ледяной шепот, но до него дошел гнусавый, вежливый голос:
– До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался. До того, как я обагрил кровью меч, противник сдался.
Перед конусообразной головой высился не лишенный угрозы поучительный указательный палец.
– Заходите, Яков Моисеевич, голубчик, заходите и опустите в кресло свою уважаемую задницу. Знаете ли вы Сунь-цзы?
Ужасающий товарищ Абдулрахманов не говорил, как офицер ГБ. Он даже не говорил, как обычный нормальный советский человек. У него был певучий бас, который переливался согласно самым утонченным правилам дикции. Он играл им как актер, но его отточенный стиль был скорее стилем университетского профессора старой России. Да и стоило только вглядеться в этого вежливого, добродушного, почти елейного человека, чтобы сами по себе пришли на ум слова «старая Россия», и все же от него исходило такое ощущение мощи! Яков Питман был бы шокирован этой нереволюционностью, если б его не охватили другие чувства: впервые за два месяца с ним по-доброму разговаривали, а он вынужден разочаровать собеседника – ведь ничего не знал он об этом Сунь-цзы, вероятно, каком-нибудь лакее Чан Кайши.
– Нет, товарищ генерал. Я не в шестом отделе, товарищ генерал. А этот Сунь-цзы, я не…

