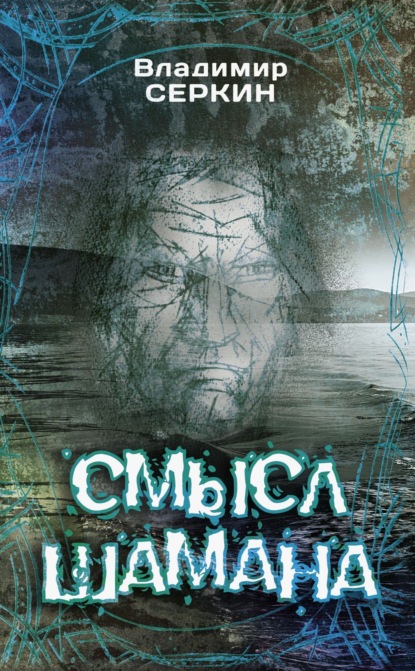
Полная версия:
Смысл шамана
Семья считалась зажиточной и уважаемой. Сыновей обучали, и Петя окончил двухклассную (4 года) церковно-приходскую школу. Учителя особо отмечали его успехи в освоении Слова Божия, арифметики и истории.
С пятнадцати Петр начал работать с отцом на фарватере, а в шестнадцать оформлен был с казенным окладом в бригаду бакенщиков вместо ушедшего охотником в армию старшего брата.
Дед уже заговаривал, прикидываясь простоватым по старости, о женитьбе, но у Петра были свои планы: урывками, он упорно читал-осваивал гимназические учебники математики и ждал семнадцатилетия, чтобы записаться в вольноопределяющиеся.
Все в небольшом Киренске (7 тыс. км от Москвы) чувствовали и знали, что война с немцами будет нешуточная. Хоть и невелик курс истории в церковно-приходской школе, но все же знали, что с начала истории Запад всегда нападал. В начале XVII века – поляки, в начале XVIII века – шведы, в начале XIX века – Наполеон (французы), вот и XX век напряженно начинался.
Романтизма было немного. Петр знал вполне определенно, что служба государева была для него единственным тем, что сегодня называется «социальным лифтом». В царевы времена ушедший с военной службы офицер поступал на гражданскую службу сразу с аналогичным чином по табели о рангах, а годы на воинской службе засчитывались в стаж госслужащего. Рассчитывал Петр, что его, как окончившего школу, почти сразу произведут в унтер-офицеры (что и произошло), а зная свою силу, сметку и меткость охотничью, полагал, что и звание подпрапорщика по военному времени не задержится, а там и полноценный офицерский чин. Но вот зачем ему это, не знал пока.
В Якутске команда призывников и добровольцев ждала баржи четыре дня до буксировки по Лене на юг и «до железки»[11]. Вольноопределяющиеся и призывники от скуки перелезали через невысокий забор сборного пункта и добирались до города перебежками через сборный пункт каторжан. Конвоиры их легко отличали по возрасту и по экипировке и старались не связываться с будущими служивыми «детьми тундры и тайги», лишь беззлобно ворча в усы: «А вот отправлю тебя вместе с этими на этап».
Раз Петр задержался возле сбежавшего, пойманного и побитого «за беспокойство» конвоем каторжанина. Тот сидел на высушенной солнцем до трещин земле, прикрыв голову руками, и громко говорил частью конвоирам, а частью проходящему мимо юноше: «За вашу же волю от супостата страдаю». Удивило, что пожилые (с точки зрения Петра – им под тридцать уже было) конвоиры не собирались заступаться словесно за царя-батюшку и не злобились, а, скорее, избегали дискуссии. «Чем же царь волю-то мою ограничивает, я же воевать еду за него?» – хотелось спросить Петру, но прошел мимо. А незаданный вопрос запомнился.
Вопрос этот (зачем?) иногда забывался. Иногда же так остро звучал в сознании, чтоПетр переплывал в лодке Лену (там ширина примерно 3 км) и подолгу сидел ночью, наслаждаясь уединением на безлюдном берегу, пока не «отпускало» напряжение и не вставали опять перед затуманенным взором далекие огни ночного Якутска за рекой.
Тогда не знал еще Петр, что это были первые проявления шаманской болезни, которые, однако, ни с кем не обсуждал, догадываясь о необычности таких состояний.
Как охотник-сибиряк Петр зачислен был в полк сибирских стрелков и в атаку штыковую или на пулемет цепью во время своей недлинной службы не ходил. Стрелков метких берегли, и полк перебрасывали для обороны в места ожидаемых прорывов. У каждого отделения была составленная офицером карточка сектора огня (Петр не видел в таких карточках ничего сложного, просто разбита линия обороны на сектора), а уж в своем секторе, кто из наступавших немцев чей, решали сами или изредка советовались с унтером. В первые месяцы, пока не начали опомнившиеся вороги артиллерийскую охоту на сибирский полк, потерь почти не было.
Окончивший церковно-приходскую школу Петр собирался быстро стать унтером и тактикой ведения боя интересовался. Составлять карточку огня для отделения командир почти сразу же перепоручил ему. Делить линию обороны на сектора для каждого стрелка с учетом рельефа было довольно просто. Да и взводные, и ротные сектора составлять ротный научил Петра довольно быстро, почти передоверив ему обход позиций. В роте все понимали, что и глаз у молодого сибиряка «позорчее», чем у ротного, и ноги пошустрее. Чем могли, Петру помогали, делились наблюдениями и кое-каким опытом.
О душах врагов убиенных старались не думать, списывая на Защиту Отечества. До рукопашной не доходило, так как одним залпом сибирские стрелки клали обычно почти всю наступающую немецкую цепь. Оставшиеся в живых немцы после первого же залпа понимали, кем заменили в окопах перед ними обычных солдат, и спешили убраться, уползти побыстрее.
Ты что, бедняжка?
В предыдущей книге («Звезды Шамана») писал про советы Шамана о том, как развивать бестрепетное сердце и бестрепетный ум. И сам не раз замечал, как эвелны с ужасной раной, полученной в результате несчастного случая или схватки со зверем, не предаваясь плачу и стонам, деловито работали с раной или терпеливо без жалоб ждали, пока другие оказывали помощь. Один раз видел, как заваленный глыбой, смертельно раздавленный эвелн в окружении молчащих земляков просто ждал смерти и умер без единого стона.
Понятно, что эвелны по-другому относятся к смерти (верят в рождение «в мире предков») и не боятся ее. Но в их умении переносить боль или лишения было что-то еще. Настало время спросить Шамана об этом. Обычно человек не помнит многого из дошкольного детства, но на всякий случай спросил:
– Помнишь, может, когда ты начинал быть бестрепетным?
– Случаев несколько помню. В детстве еще.
– Можешь рассказать?
Краткий пересказ рассказов Шамана1. Лет пять было. Играли с эвелнской девочкой, взрослые ушли за стадом. Девочка показывала, как она ловко обращается с большим эвелнским ножом, и неудачным движением очень сильно разрезала кисть руки. Крови очень много, она громко кричала и плакала от испуга и боли. Петя не знал, что делать, и просто сидел в рядом с ярангой, рыдал. Это длилось долго, до прихода взрослых.
При их появлении девочка с ревом бросилась к отцу, протягивая окровавленную руку. Отец стал осматривать рану и вдруг спросил: «А ты че орешь? Ты бедняжка, что ли?» Девочка мгновенно перестала кричать и гордо, обиженно твердо ответила: «Нет, я не бедняжка».
Почему-то на Петю, секунду назад самого готового орать от страха, эта сценка произвела огромное впечатление. Сказал себе твердо: «Если уж девочка, то и я, мальчик, не бедняжка тем более».
Это один из многих аспектов, но именно с него начался (как кажется) контроль над своим поведением.
2. Естественно, для пацана в 6–7 лет интересна была стрельба из ружья. Отец дал выстрелить в этом возрасте, лет в 6–7. Объяснил, понятно в общем, как целиться и стараться не дергать ствол при нажатии на спуск.
Но ни слова не сказал про отдачу! При первом выстреле Петя почувствовал резкий болезненный удар в плечо. Виду не показал, и взрослые не обратили на это внимание. Сначала при последующих выстрелах старался незаметно держать приклад подальше от плеча. Удар получался еще сильнее и болезненнее. Возникала даже детская мысль отказаться от стрельбы из ружья и начать осваивать лук.
Слава Богу, стал присматриваться к взрослым и увидел, что они прижимают приклад как можно плотнее к плечу. Пацану это казалось парадоксальным, понятно же было житейски, что чем дальше от плеча приклад, тем слабее удар по плечу. Но попробовал и убедился, чем плотнее к плечу приклад, тем меньше удар (уже подростком понял – так приклад не разгоняется отдельно от плеча). Тогда еще понял про ложную стеснительность – спросил бы сразу у взрослых, они бы объяснили, показали пацану без его детских мук. И про то, что нужно присматриваться и пробовать самому. Практика иногда мудрее детского житейского опыта. И потом, даже когда кажется, что все нормально, – продолжать в любом возрасте спрашивать, наблюдать и учиться.
Сейчас некоторые считают Шамана великим охотником, который знает все о лесе. Часто кажется, что он не охотится и рыбачит, просто идет в нужное время в нужное место и «берет» нужное количество дичи, рыбы, грибов, растений, ягоды, шишек[12] и пр. Но если спросить его о зверях или растениях, он иногда расскажет об опыте других мастеров или даже о них (животных).
3. После травмы старшего брата, его привезли на санях – фельдшер зашивает, и они спокойно, нормальными голосами беседуют с братом, хотя 10-летний Петя знал и чувствовал, что страшно больно. Брат и фельдшер были бестрепетны. Брат (еще юноша) хорошо «держался», уж точно слово «бедняжка» ему не подходило. А фельдшер (Петя почему-то помнит фамилию – Долотов) не держался, он был просто бестрепетен.
Договориться с муравьями
…было лет 11–12 (примерно 1907 год). Еще действовала договоренность с отцом[13]: на Север дальше второго хребта не заходить. Я и шел по второму. Почувствовал дымок костра, удивился и двинулся на него.
Старый эвелн (волосы седые, а лицо гладкое) кипятил воду на удивительно маленьком костерке из нижних высохших веток лиственницы. Всего три язычка пламени, но все они вились именно по днищу котелка. Увидев Петю, он ничуть не удивился, жестом пригласил к костерку и долил в котелок воду из баклажки.
– Не знаешь русского? – спросил Петя, усаживаясь.
– Местный? – вопросом на вопрос ответил эвелн, показывая знание языка.
– Да, наши места.
– Далеко село?
– За той сопкой. А ты откуда?
– С Севера. – Эвелн неопределенно махнул рукой, но Петя почему-то не стал уточнять.
– К нам по делам?
– В лавку зайти нужно, а так дальше.
Помолчали. Петя достал кружку, с удовольствием ожидая хорошего чая (уловил по запаху). Тревожно не было. Наоборот, каждый знал как-то, что рад встретить другого человека.
– Сахар есть, а хлеб кончил уже, – предложил Петя. Эвелн улыбнулся.
– У меня так же.
– У нас заночуешь?
– Спасибо. Батька не против будет?
– Не. Изба большая, на ужин народу много, пирог и каша с мясом еще на утро или до обеда останутся.
Опять с удовольствием помолчали, потягивая чай. Но по-разному. Эвелн думал о чем-то своем. А Петя молчал спокойно, по-мужски, не сотрясая воздух лишними словами и отдыхая от беготни по лесу. Не умел еще ходить размеренно.
– Что возишься? – вдруг спросил эвелн, вернувшийся от своих мыслей.
– Муравьи в штаны. Муравейник где-то рядом… Тебе хорошо, как-то договариваешься на их языке.
– И ты можешь. Взрослые русские не могут уже, а ты еще помнишь.
– Как?
– Настройся на диалог НА РАВНЫХ. Как с группой сверстников. Без угроз и заискиваний. Как человек с человеком.
– Да не получится.
– Пробуй.
– Мутность какая-то.
– Пробуй, говорю.
– Ну ладно.
Муравьи, муравьи, Вы не трогайте меня.
А я оставлю Вам хлебной и сахарной крошки, когда буду уходить.
Через минуту все прекратилось, перестали наползать. Впоследствии всю жизнь так договаривался с комарами, птицами…
Объяснить другим трудно, тут важна не крошка, а готовность [разделять и внушать]. Не знать, а именно «вспомнить» как. В детстве смог вспомнить, и запечатлелось.
Новое решение, риск и новые права
Годами брали неводом тагунка[14] в привычной заводи. Почти традиция. В этом был резон, подкрепляемый опытом. Старшие рассказали-показали, какие места нужно обходить неводом, где приподымать его, чтобы не зацепить, не порвать о корни, коряги и камни. В начале лета иногда все равно рвали невод о принесенные половодьем деревья-коряги на дне, но чаще все обходилось благополучно. Трудные места запоминали. Особенно злили подъемы невода из-за нескольких высоких камней (уходило под невод до половины рыбы), но тут ничего не поделаешь. Заводили невод еще и еще раз.
Лет с десяти Петр присматривался к соседним заводям, чувствуя, что там много рыбы, и не раз предлагал пройтись там по дну неводом. Но отец правильно говорил, что рвать и путать невод в незнакомом месте себе дороже. Лучше прийти через пару недель и «обловить» знакомую заводь еще раз. Лет в 13 Петр попробовал поплавать-понырять в соседних заводях и убедился в том, что и так знал – отец прав, в незнакомом месте невод будет порван, а чинить его долго и муторно.
На следующее лето Петр мог нырять уже глубже, доставая дно, и несколько дней трудился под водой. Часть близких к берегу коряг удалось просто вытащить, у других он срезал-спилил самые мешающие ветви и корни. Даже удалось сбить узкую вершинку большого камня на дне. Когда предложил пройтись неводом по обработанной заводи, старшие братья и отец, видевшие его упорное ныряние с ножовкой и молотком, не удивились и согласились, сказав лишь, что невод будет чинить сам. А посмотрев нарисованный им план-чертеж дна, стали спрашивать, вначале чуть ни на каждом шагу, куда вести невод, где приподнимать, где опускать и пр.
Первый раз прошли, не зацепив ничего и взяв много рыбы. С тех пор в семье привычно стали говорить «Петькина заводь» (чаще просто – «Петькина») и редко брали там рыбу, если Петр был в отлучке по другим делам. Когда же Петька, поныряв, обустроил лучше и традиционное место, это было воспринято как должное, и старшие стали советоваться с ним насчет невода и сети во всех других местах.
Привыкнув к тому, что старшие к его мнению прислушиваются, Петр уже позже (по пути на передовую) сделал для себя некоторые выводы, которые не раз пригодились ему и на войне (войнах), и вообще:
1. Предлагая новое, ты рискуешь тем, что: а) будешь отвечать за последствия; б) мнение других людей о тебе ухудшится, если новое будет неудачным.
2. Если получится более-менее удачно, то: а) другие люди будут ценить твое мнение; б) твой авторитет повысится.
3. Прежде чем предложить и взяться за новое общее дело, лучше: а) узнать об этом деле как можно подробнее; б) подготовить, как сможешь.
В 20-х годах (XX века), выезжая с друзьями из Иркутска в деревню на Ангару, Петр заметил в заводях реки много тагунка и, раздобыв мелкоячеистый маленький невод, за полдня наловил (наневодил) рыбы в несколько раз больше, чем все присутствовавшие друзья. А после того как он показал засолку тагунка в бочонке, в Иркутском университете стал считаться опытнейшим рыбаком («с Лены»), и к нему не раз обращались за советом. Приобретенный, благодаря проведенным на Лене (семья бакенщика) детству и юношеству, опыт казался необычайно большим и уникальным городским жителям, особенно по зимней рыбалке (даже предлагали быть соавтором книги-справочника). В детстве Петр этого не ценил, но позже обдумал.
В обычное время в Киренске стоящий в погребе маленький бочонок тагунка считался всегда имеющейся под рукой легкой закуской (перекусом), как и бочонки с огурцом, капустой и пр. Но во время войны тагунка ставили уже несколько бочонков, и это выручало длинной зимой.
1915. Ранение. Румянцевская библиотека
С конца 1914 года был унтер-офицером полковой разведки. Рассказывал немного о разных «хитрых», как тогда казалось, военно-полевых верованиях. Например, перед ночной вылазкой сосали колотый кусочек твердого сахара-рафинада, или красным фонариком в глаза светили, верили, что от этого улучшается темновое зрение.
Возвращаясь с задания через линию фронта на Варшавском выступе, был тяжело ранен в живот разрывной пулей (Шаман уверен, вопреки записям историков, что снайперы у немцев уже были). Товарищи дотащили в часть, и началось «путешествие» по госпиталям.
Сначала Петру (будущему Шаману) относительно, как он позже понял, повезло. После многих переводов и хлопот самого полковника, близко принявшего тяжелое ранение юного Георгиевского кавалера (за храбрость в боях) сибирского стрелка, несколько месяцев долечивался в подмосковном госпитале. Но и там оформление ухода только ставшего прапорщиком (офицером) в отставку потребовало много тупого терпеливого упорства и потери чина (таков был несправедливый закон). В итоге все же получил документы отставника по ранению и право на мизерную пенсию (относительно мизерную – это для Москвы. Вообще-то она была равна почти половине оклада бакенщика в Олеминске).
Поразившись и посетовав на размер пенсии, 19-летний отставник задумался, как жить дальше. Сначала пришлось отказаться от мыслей о возвращении в Киренск. Тогда будущий Шаман сам еще не верил в свое полное выздоровление и, с сожалением, оставил свои мечты о работе бакенщиком и подработке при этом охотой и рыбалкой.
Пособия и пенсии должно было хватать нормально прожить до зимы. Нужно было строить жизнь и профессию в Москве. Поработав там и тут (грузчиком в булочной, кровельщиком, извозчиком на чужой лошади и пр.), Петр решил продолжать образование. Дерзость планов его никогда не останавливала, и он подал документы на юридический факультет МГУ. Рассчитывал, что у юного ветерана, раненого офицера-отставника гимназический аттестат сразу требовать никто не будет (так и вышло, все заполнили с его слов). Сделал себе легенду: с первого года Иркутской школы прапорщиков (о которой лишь мельком слышал в Якутске, на сборном пункте) ушел вольноопределяющимся на фронт, документы остались в Иркутске[15].
Сначала решил, как некоторые друзья-однокурсники, зарабатывать репетиторством, но знаний церковно-приходской школы было явно недостаточно, и, осмотревшись в Москве, устроился референтом (статус студента МГУ уже позволял) по договору в Румянцевскую библиотеку[16] (будущая библиотека им. В.И. Ленина). Тогда же понял, что при всех легендах о неодолимой царской бюрократии, главное – не аттестат или справка, а четкая цель и умение убеждать людей (например, при общении) и чувствовать их своими союзниками.
В ответе на вопросы о трудностях общения после сибирского маленького городка-поселения и армии в Москве со сверстниками-однокурсниками, выпускниками престижных гимназий, Шаман рассказал о нескольких странно неловких ситуациях в гостях у однокурсниц: сначала на вопрос «Что будете (например, кофе или чай)?» Петр несколько раз ответил: «А то же, что и Вы». В Киренске, в отцовской семье такого вопроса никогда не было, ели то, что на столе. В армии тоже, что полевая кухня привезла, то и ели.
Потом понял, что это новая часть самостоятельности – небольшое размышление и самоопределение при наличии выбора.
Впрочем, обычно все списывалось на молчаливость Петра и остающиеся после ранения переживания[17] (сейчас это описывается как ПТСР – посттравматическое стрессовое расстройство. – В.С.). Однокурсники и даже их родители с большим пиететом относились к факту пребывания Петра на фронте и ранения.
Мятеж левых эсеров[18]
Летом 1918 года, фактически уже перейдя на четвертый курс юридического факультета МГУ, Петр, будучи представителем студентов-юристов, проголосовал на одной из конференций «за» резолюцию против ратификации Брестского мира[19]. В событиях 6 июля (мятеж) он не участвовал и узнал о них (убийство посла Германии Мирбаха, вооруженные столкновения в Москве и в Питере, аресты и пр.), лишь вернувшись в конце августа в Москву (летом гостил у родителей невесты).
Список голосовавших как-то попал в ВЧК, и в конце сентября Петр был арестован прямо на лекциях и доставлен на Лубянку (для допросов и уточнений).
В камере долго говорил с ехавшим из Питера в Улан-Удэ тибетским ламой, много узнал о тибетском буддизме. Тот тоже с огромным интересом слушал о таежной жизни в Якутии, назвав жизнь в тайге почти идеальной для развития и продвижения. Но с условием, если человек имеет образование и тягу к развитию. Впрочем, ламу на четвертый день выпустили (не до таких было), Петр же получил дополнительную опору в круговерти жизни – возможность приехать в буддистский монастырь и пожить там.
Узнав о расстреле верхушки партии левых эсеров, бежал (ему, фронтовику с опытом, это было нетрудно из-за расхлябанности конвоя и тогда еще двойственного отношения солдат к арестованным). Успел заскочить на свою съемную комнату-квартиру, сжег в печке большинство документов и метнулся на Ярославский (как он тогда назывался?) вокзал. Сел в поезд на Владивосток, но, узнав уже в поезде о мятеже во Владивостоке, сошел в Иркутске. Офицерские документы (в том числе и о награждении Георгиевским, и о ранении) уничтожил и начал новую жизнь в Иркутске, имея документы неокончившего студента МГУ. Никто его в Иркутске не искал и не ловил – Гражданская война разбушевалась всерьез.
Невесте и первой в жизни женщине он передал через друга-студента краткое письмо, опасаясь за нее: «Я арестован по политической статье против власти. Прости. Прощай». Неизвестно, дошло ли? Больше о невесте Шаман отказался рассказывать.
Осень 1918 года, зиму и весну 1919 года Петр работал в конторе по организации Иркутского Университета[20]. Старался в политику не вмешиваться. С падением Временного Сибирского правительства контора была временно распущена, и в 1920 году Петр устроился в один из отрядов РККА (рабоче-крестьянская Красная армия), охранять эшелоны и поезда КВЖД от нападений хунхузов (китайские разбойники-бандиты).
В охране железной дороги прослужил успешно до 1928 года, женился, купил дом и надел в Киренске, родилось девять дочерей и два сына, занимался хозяйством и рыбными промыслами.
Другая методология
Начало 2000-х
В начале 2000-х, когда Шаман жил у меня, я научил его пользоваться компьютером. Обучение, помню, заняло около часа. Могло и быстрее, если бы сразу учил по-другому. Думаю, и сегодня диалог полезен некоторым людям моего возраста и старше (да и младше).
Сначала показывал мышь, как открывать редактор, какие кнопки или их сочетания нажимать, пока у нас обоих хватало терпения. Шаман старательно записывал и, наконец, спросил:
– У тебя есть инструкция?
– Большинство инструкций есть в самом компьютере.
– Покажи, как открыть главную.
– Главной нет, они разные под разные задачи.
– Не может быть. Любой прибор сгорит нафиг, если действовать не по инструкции.
– Здесь ничего не сгорит, если питания не трогать.
– То есть могу давить любые кнопки, и ничего не будет?
– Да, сохраняй только, чтобы текст не потерять.
– Так бы сразу и сказал.
– Что сказал?
– Понимаешь, весь ХХ век нас учили – нажмешь не ту кнопку или рычаг, и дорогой сложный прибор сгорит или вообще взорвется.
– Поэтому ты спрашивал про инструкцию?
– Да.
– Здесь не так. Если не лезть в железо или в программы, то жми все смело.
– Пробуй и узнавай?
– Ага.
Когда вечером я пришел с работы, Шаман уже был пользователем не хуже меня, а через несколько дней – лучше. Сам себе задавал вопросы и сам же находил в Сети ответы, самоучители и курсы пользователя.
Это заставило меня задуматься о том, чему и как обучается Шаман. У него было два преимущества перед загруженным работой и делами взрослым (мной, например): а) преимущество ребенка над взрослым – время обучения (проб и ошибок) неограниченно (бесконечно); б) преимущество взрослого над ребенком – помнил свои вопросы и упорно целенаправленно искал ответы.
В немецком плену было лучше, но судьба здесь
05.01.2022
Однажды, придя к Шаману, я застал у него гостя из области (Магаданской). В начале 50-х годов XX века (лет 75 назад) они вместе сидели и работали в руднике на золотодобыче. Гость, которому было, по моим прикидкам, не менее 100 лет, выглядел хорошо для своего возраста. Был высок, худощав, бодр и подвижен. Более того, он был, в отличие от Шамана, вполне социализирован, получал пенсию уже лет 50 и не собирался никуда уезжать из поселка («здесь умирать буду»). Раз за много лет выбрался за сотни километров из области (поселок на трассе) на побережье к Шаману. До Магадана доехал на рейсовом автобусе, а оттуда уже сам, пешком, поняв по отрывочным, почти мифологичным описаниям слышавших о Шамане, кто это и как его найти.
Пообщались, узнал, что он успел больше года повоевать в Великую Отечественную («оборона была»), попал в плен в начале 1942 года и был освобожден Советской армией уже в 1945-м. Сразу же попал в ОС (особый отдел) дивизии и поехал эшелоном из Берлина через всю Россию и морем прямо на Колыму (6 лет и «по рогам» (поражение в правах)) за то, что был в плену и работал на немцев. Естественно, я спросил его, где лагерные условия лучше – в Германии или на Колыме?
Нисколько не задумываясь (продумано раньше), гость без сомнения ответил, что, по его мнению, условия в Германии были лучше. Про климат и так понятно. В Германии он работал сначала на сельхозферме, потом на моторном заводе. Охрана была, но там не было постоянного плана (нормы выработки), его били несколько раз, но ни разу не урезали пайку (суточного питания). На Колыме же был план и постоянные требования-нормы. При невыполнении тяжелой физически нормы выработки (дробление киркой породы и перевозка на тачке до отвала), пайка (обычно, количество хлеба) автоматически урезалась, что делало выполнение нормы голодным замерзшим человеком еще труднее. Он (гость) несколько раз «доходил» (истощался до невозможности выполнения работы). В его лагере «доходяг» сначала помещали в лазарет, и это его спасало.



