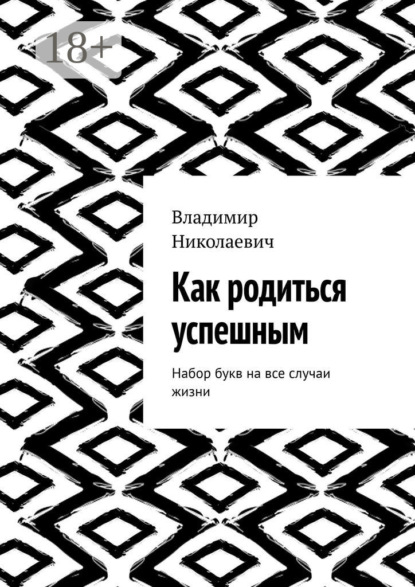
Полная версия:
Как родиться успешным. Набор букв на все случаи жизни
Но это всё меркнет по сравнению с поиском смысла жизни. Всё в порядке, пока он рассматривается локально, в конкретном значении: – смысл жизни в том, чтобы отучиться, получить образование, работать по специальности, сделать карьеру, создать семью. Но как только задует экзистенциальный ветер сомнения, всё резко станет серым и безвыходным: – Сделает ли это всё меня счастливым (ещё одно слагаемое нерешаемых философских уравнений)? Ну допустим, и что дальше? Какой смысл всего этого вообще, глобально? На каждый возникающий вопрос можно дать какой бы то ни было ответ, но ответы будут порождать дополнительные вопросы (которых всегда будет на один больше), плюс всегда можно задать главные вопросы: «зачем?», «для чего?»; и единственным способом остановить бесконечное падение в бездну сумасшествия, это (перестать задавать вопросы) принять события как данность и не искать в них слишком глубокого смысла, потому что когда ищешь, найти можно что угодно, даже то, чего нет. Но если искать слишком глубоко и непредубеждённо, может оказаться, что смысла нет ни в чём, всё существование – лишь суета. С одной стороны это может деморализовать ищущего, с другой же может наоборот помочь избавиться от всего лишнего и сконцентрироваться на главном.
Такие абстрактные понятия как смысл, свобода, счастье (и т. п.) являются такими же значениями, что и математические символы, и так же дают внятный результат только при понимании принципа их правильной интерпретации и расстановки. Хотя, правильнее сказать, что эти понятия – искомые «х» в уравнениях, вариантов решений которых огромное множество, но все они дают совершенно разный результат, устраивающий кого-то одного, но совершенно не подходящий кому-то другому.
Для получения верного ответа, необходимо логически правильно построить задачу. На тему, «что такое логика?», можно будет поговорить в другой статье, так как, не смотря на своё значение, термин не менее абстрактный; тем не менее обозначает определённую последовательность, которая кем-то может быть также интерпретирована как нелогичная. Чтобы построить эту (и любую) логическую задачу корректно, нужно рассуждать максимально простыми и конкретными понятиями. Например: 2+2=4. Если мы складываем две лопаты и две лопаты – получается 4 лопаты. Но если попытаемся сложить две лопаты и две ямы, то четвёрки не выйдет, потому что в реальности само по себе такое действие просто бессмысленно, как и деление яблока на ноль частей. Не считая случая игры слов, когда можно получить две ямопаты или лопамы и воссоздать их прототип при помощи фоторедактора (или нарисовать). С таким успехом можно сложить две лопаты с двумя теми же самыми лопатами (то есть с самими собой, многократно, превратив в бесконечное множество), а также всё на что только пойдёт разыгравшееся воображение. В общем-то, примерно этим не редко занимаются люди во время поиска себя, а всё из-за неверно составленного уравнения счастья. Например, можно услышать, что человек хочет стать певцом или, того пуще – с приставкой «известный». Но само по себе словосочетание «известный певец» не является чем-то самим собой разумеющимся, как бы странно для кого-то это ни звучало. Кто-то постоянно поёт, потому что у него душа поёт и он не говорит «Я хочу быть певцом», он им является. А другой говорит: «Я хочу петь. Хочу выступать на сцене.» Из чего можно предположить, что второй желает всего, что связано с жизнью артиста, но ему это нравится в контексте пения или просто славы. Другого восхищают актёры, например. Но человек, действительно одарённый, может даже не думать о славе или не хотеть её, или даже избегать. А человек, который хочет быть кем-то, скорее всего менее одарён, но упорством может создать ощущение талантливости. Так в жизни бывает не редко. Что-то у нас получается, но мы этого будто и не хотим, будто бы это нам не интересно. Но то, что интересно, требует много усилий и может быть не особо получается. Тут возник вопрос из любопытства: интересно, насколько упрямый и упорный человек может далеко уйти, если будет заниматься тем, что ему даётся легко?
К слову о вычислениях, в современных языках числительное выведено на первый план, а исчисляемое – на второй; здесь усматривается тяга современности к рационализации, ведению отчётности всего без разбору. Всё потому, что математика, не смотря на свою точность, является абстрактной наукой. Но в некоторых примитивных языках существуют отдельные числительные для разнородных объектов. Если адаптировать к приведённому ранее примеру, то у нас не получится сложить две лопаты с двумя ямами, потому что для лопат одни числительные, а для ям – другие. То есть, «лопата» и «две лопаты» – это просто разные слова. «Две лопаты» на том примитивном языке, это не слово «лопата» с применением к нему числительного «две», что даёт возможность вести математические исчисления, но отдельное слово типа «паралопат», не выводящее это понятие из гуманитарной категории в математическу. А для случая двух ям будет слово «двеямы». Отсюда не может возникнуть абстракции: берём «пара» от лопаты, «две» от ямы и складываем, так как нет математики как абстрактной дисциплины, есть только в конкретном вещественном виде, для оперирования осязаемыми предметами. Сколько бы не подтрунивали над первобытными ритуалами наши цивилизованные друзья, а всё-таки в некотором прагматизме «дикарям» не откажешь. Возможно, это подсознательный предохранительный механизм от сумасшествия. При всей сложности грамматики примитивных наречий, аборигенам приходится знать порой по десять языков, чтобы вести торгово-дипломатические отношения с другими общинами, при этом, у некоторых племён даже нет письменности.
Возвращаясь к нашим понятиям, следует заметить, что понимающий относительность слов и одержимый корыстными целями человек, будет легко оперировать именно абстрактными терминами. Например, если кандидат в мировое правительство кричит о свободе, равенстве, справедливости, честности – перед нами популист, взывающий к душевным болям человечества. Достаточно заглянуть в любую социальную прослойку (за редкими может быть исключениями), как станет ясно, что ни одна из этих концепций практически не применима к существованию в обществе, в абсолютном смысле. А в смысле локальном эти понятия работают в угоду того, кто ими умело жонглирует. И судя по тому, какой отклик эти мантры находят в сердцах отчаявшегося электората, им просто хочется хотя бы слышать и говорить об этом, потому что подсознательно каждый понимает – все эти идеи утопичны априори, так как сегодняшнее общество, вместе с провозглашаемым благом, существует вопреки ему – и это есть самый главный, единственный и исчерпывающий манифест невозможности стабильного существования, когда всем хорошо. Ну как может быть равенство, когда есть сильные и слабые физически; умные, шустрые, хитрые и бестолковые, несообразительные, глупые; талантливые и бездарные; трудолюбивые и ленивые. Сильный, с лидерскими наклонностями муж не сможет позволить себе быть на вторых ролях, его природа не оставит выбора. Как бы ни была сильна мораль, хитрый не останется без того, чтобы не обхитрить. Полуумный не сможет быть как все в принципе. Всегда будут те, кто в центре внимания, середнечки и аутсайдеры, маргиналы и выскочки. Кто-то будет делать больше, кто-то будет паразитировать, кто-то пойдёт против правил.
Неотъемлемой частью быта, гарантирующей выживание рода людского, является юмор с сатирой, лучше всего отражённые в насмешках над распространёнными недугами общества и над конкретными лицами, это своего рода отдушина для масс. Мало кто в добром здравии и хорошем настроении упустит возможность подтрунить над близким. Кто-то шутит слегка касаясь румянца на щёках, кто-то залезает в самое пекло стыда, и порой трудно отличить способ поднять настроение от повода для выяснения отношений. Такое тоже бывает.
Интересен сам феномен шутки. Один товарищ может сказать другому какую-нибудь колкость, а через несколько секунд, зафиксировав заветную реакцию, добавить: «шутка». И будто бы всё сразу меняется. Нередко, на неудачные (удачные) шутки обижаются. На неправду обижаются наверное реже, чем на правду. Под правдой подразумевается то, что человека заботит. Значит, истину вещает поговорка, и в каждой шутке действительно только доля шутки, а всё остальное правда?! Или может быть это не просто возможность донести правду и проверить психику товарища на прочность, но и выпустить пар из своего котла, где варится очередная порция кураре. Что ты (или не ты) подразумеваешь, когда добавляешь после набора слов «шутка»? Просто что-то смешное? Смешную правду или не правду?
Узкое лезвие полоснуло темноту и разверзлась рана светом до беспредельности. Это было похоже на далёкий взрыв в космической вселенной. Какая разница, кто ты и что ты делаешь, всё равно у всех когда-нибудь оборвутся нитки. Непонятный набор слов. Непонятное всё.
…
…Сколько оно не будет повторяться, к этому наверное невозможно привыкнуть. Каждый раз открывается чулан и впускает единственно верную реальность. Всё остальное… эти сны… как они фантастичны и невероятны… постоянно что-то дарят, потом провожают до порога и, казалось бы, ещё чуть-чуть – и я внесу этот свёрток под мышкой, как ни в чём ни бывало, потом очухаюсь и разверну, и порадуюсь этому прекрасному, так необходимому, тому, чего так не хватает в этом мире, чтобы он превратился в бесконечный поток счастья и гармонии… Но как только всё проходит, оказывается, что свёртка нет. И даже если удаётся что-то умыкнуть, при ближайшем рассмотрении оно оказывается какой-то несусветной ерундой или вполне себе очевидной вещью.
Вот и сейчас. Как только я до конца отделил явь от сна, сбросил лёгкость и понятность всего сущего и примерил более привычную тяжесть и сложность бытия, вспомнился очередной полёт во сне. Сколько раз это уже повторялось. Но снова и снова я оказываюсь там, где я никогда не был, или был во вполне известном месте, хотя оно и не было похоже на себя. Но я знал, где нахожусь и не возникало мысли, как я здесь очутился. Даже где-то на периферии сознания была память, что я уснул в конкретном месте (память о реальности), поэтому сон мог быть с ним связан. Я видел людей с незнакомыми лицами, но знал их и порой это были мои друзья из реальности, только они не были похожи на реальных. И бывало, я что-то понимал, что-то такое важное, что-то такое очень простое, но очень мудрое, что разрешало все трудности жизни. Но почти всегда оно оставалось во сне. Хотя казалось, вот-вот и я его вынесу в реальный мир и… и… и не знаю, чтобы я с этим делал. Но всегда казалось, что это понимание имеет какое-то решающее значение в жизни. Но когда запоминать всё же получалось, это был какой-то почти бессмысленный набор слов или что-то донельзя очевидное; в общем что-то такое, что само по себе вероятно никак не смогло бы перевернуть мир или хотя бы вообще пригодиться.
Всё, что я запомнил, это были слова: «Какая разница, кто ты и что ты делаешь, всё равно у всех когда-нибудь оборвутся нитки». А ведь казалось чем-то таким очень значимым и мудрым, всё объясняющим. Но с такой философской доктриной последователей будет найти не очень просто.
Я время от времени задумывался о Марионетианстве. Ведь это самая распространённая у нас религия, но в её основе лежит лишь вера в чудо. Набор историй, которые кто-то воспринимает как реальные события, кто-то интерпретирует как аллегории или просто древнюю поэзию. Я, кстати, больше склоняюсь к последнему. Потому что если даже в сегодняшней особо изящной прозе или поэзии пытаться искать здравый смысл и пытаться понять буквально, то можно очень быстро разочароваться. Когда думаю об этих вещах, вспоминаю одного эксцентричного философа, который по-своему резко и правдоподобно интерпретировал всю символику и ритуалы Марионетианства. Само название происходит не от мученика Марио, а от древнего развлечения «марионетки», когда из подручных средств делали образы людей, называвшиеся «куклы», привязывали их за руки и за ноги нитками, которые в свою очередь крепились на крестах. Эти кресты держали в руках люди под названием «кукловоды» и управляли куклами. Это как раз объясняет, почему на всех храмах возводятся кресты с верёвками, почему жрецы носят опять же кресты, подвязанные за ниточки всеми концами. Так же это объясняет почему жрецов называют кукловодами, а тех, кто участвует в обрядах – куклами. Отсюда же берёт своё начало ритуал крещения: ребёнка кладут в ящик, потом достают (будто бы достали «куклу» из ящика для начала представления), протирают святым лоскутом (будто бы от пыли) и начинают болтать дитём над землёй, будто бы он ходит сам, а в это время жрец «кукловод» держит над ним крест и произносит слова, которые как бы произносит новопосвящаемый. Все присутствующие смеются и хлопают в ладоши, после чего уже крещёного кладут снова в ящик, что знаменует окончание обряда инициации. Кстати, подобным образом эта теория объясняет так же и то, что после смерти нас кладут в ящик, что знаменует собой окончание представления под названием жизнь. Далее, отсюда же следует, почему всевышний располагается наверху и каким образом определяет наши действия.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов



