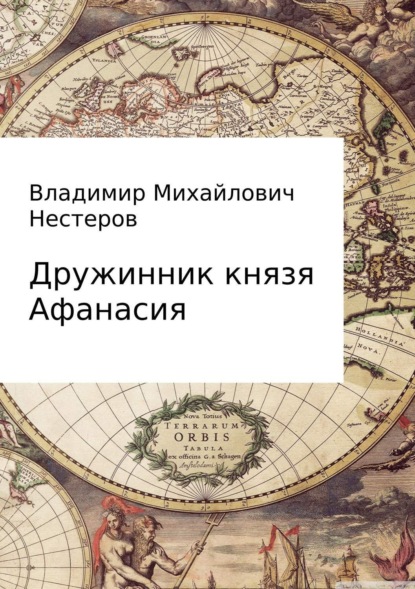 Полная версия
Полная версияДружинник князя Афанасия
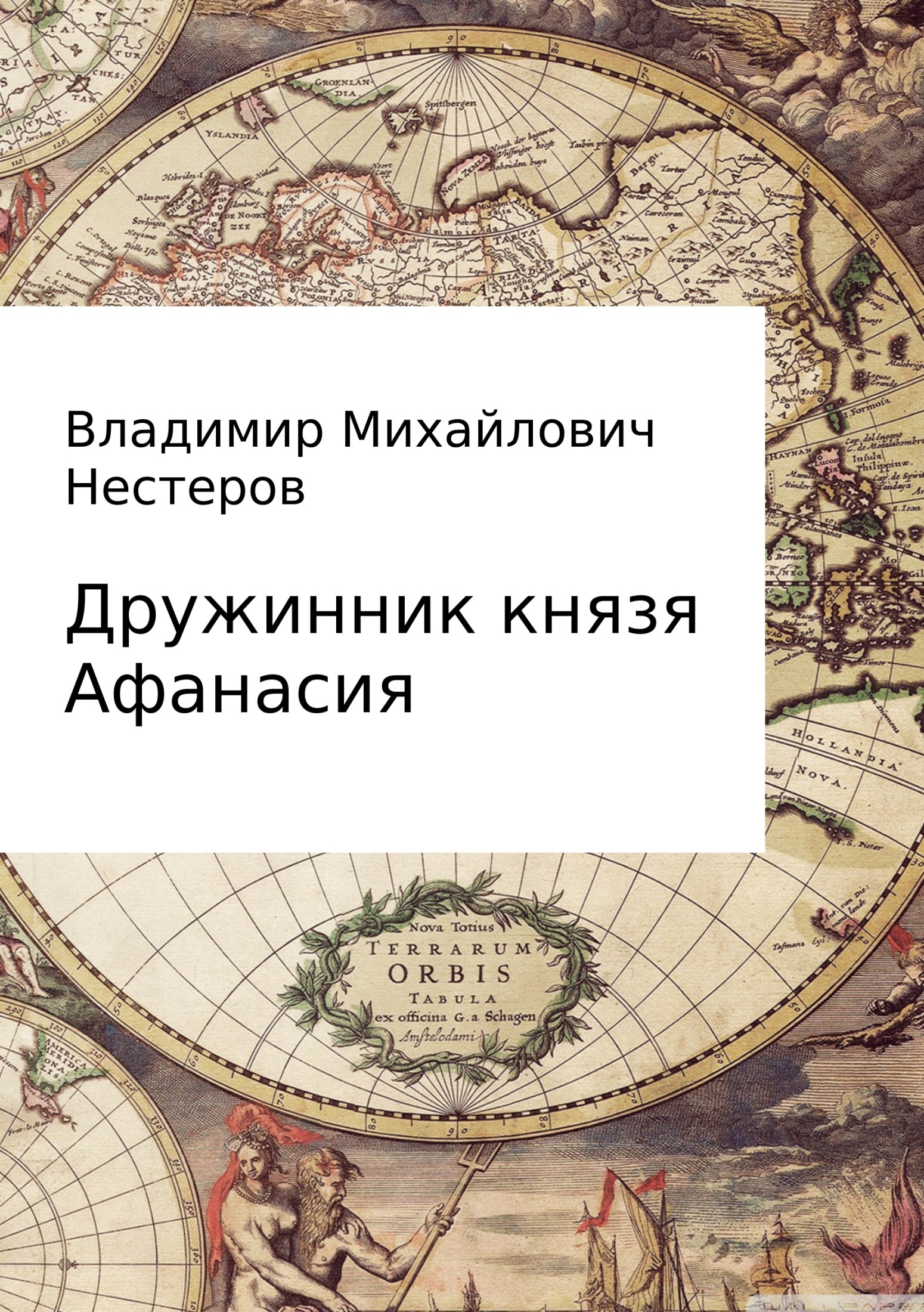
Дружинник князя Афанасия
Единственной и неповторимой жене Кате и нашим детям – Саше и Роме …
Я не люблю предисловий, никогда их не читаю и конечно не стал бы писать, но к сожалению, без предисловия мой рассказ не может быть понят.
Поэтому мне придется насколько возможно коротко изложить события, послужившие причиной написания этого сочинения.
После того, как мне была сделана одна очень сложная операция на глазах, я более месяца не мог бриться без посторонней помощи, и чтобы не затруднять близких решил отпустить бороду и усы.
Пока я находился дома, это не вызывало каких-либо возражений со стороны домашних, составлявших в это время мой круг общения, но как только послеоперационный период закончился, и я показался на люди…
Скажу одно – советы – «не позорится» – были из категории самых тактичных. И я конечно бы сбрил все эти «неподобающие для молодого человека наросты» со своего лица, но во мне разыгрался дух противоречия, и я принял категорическое решение –ничего не сбривать!
Своей «многозначительной» бородкой, более-менее густой только на подбородке и с редкими волосиками на щеках, я походил на некоего древнерусского витязя, впервые выходившего в поход в составе княжеской или боярской дружины. Так казалось мне, когда я специально заведенной расческой причесывал перед зеркалом свою гордость.
Вот в один из таких моментов со мной и произошло странное событие, совершенно уникальное по вызванным ощущеньям – я как бы перенесся в начало ХI века, но в тоже время и не совсем я: все мое – внешность, знания, привычки и др., но дополнительно я как бы уже был вживлен в это время заранее – у меня были родителя, друзья, любимая девушка. Я не чувствовал себя чужим в той эпохе, хотя знал будущее до ХХI века, что говорит о том, что произошедшее не было простым переселением души.
Я пробыл в том времени два дня, затем связь времен неожиданно прервалась. Но несомненно я не исчез оттуда, точно также как находясь там, не исчезал из нашего времени.
Наука рано или поздно раскроет тайну случившегося со мной. Я же решил изложить произошедшее, стараясь по возможности воздерживаться от комментариев, дабы быть объективным.
I глава
Отец приехал с городских вымолов1 усталый. Он скинул на лавку пояс с мечом, ополоснул руки под рукомоем и сев за стол сказал:
– Завтрева Лександра с собой беру. Съездим сторожи поглядеть. – Мать перекрестилась и ухнув из печи на стол горшок с кашей сказала:
– Ян, да почто малого-то в службы свои брать! Себя не бережешь, хотя о сыне подумай! – Отец упредил меня:
– Не малой он, семнадцать годов ему. Скоро жениться нать! – Мать в ответ только охнула. Верно для матери я завсегда буду малым, тем более что один в семье – и в душе материнской стало быть тоже один.
– Коли себя покажет, место свое ему с чистой душой оставлю, – продолжил отец, стряхивая крошки с бороды…
А был мой отец переяславским воеводой.
Тысячи различных дел лежат на воеводе, про то верно и прозвали его через немногие годы тысяцким. На нем не только заботы о ратном деле: дружине, стенах градских и о сторожах, хранящих град от нежданного нападения ворогов. Должон воевода и гостей заморских приветить, благо переяславский торг лежит на путях торговых, и если б не угрозы со стороны степи, то ужо бы и сам Киев переплюнул. Все строительство градское на воеводе – на Переяславле ноне каменный храм стоить положил князь Афанасий. Да и иных забот у воеводы множество…
Батя разбудил меня затемно. Он уже оделся и натягивал сапоги, замечательные сапоги зеленого сафьяна, под стать князю.
Сапоги были источником некоей тайны. Мне помнилось, как еще мальцом я спросил, откуда у отца такие княжеские сапоги, но он не ответил, лишь глянул мрачно и в глазах его мне показались слезы…
Мы скоро поснедали и вздев брони, одвуконь тронули со двора.
Денница едва всходила, а народ уже бодрствовал. Хозяйки коров подоили, выгнали скотину на улицу, отстряпались и своих покормили. Из города и в город ехали и ехали – кто верхом, кто в телеге или возком.
Город издавна делился на Гору и Предгорье. Горой звали высокое место за толстыми, из тесанного камня стенами, лишь недавно сменившими деревянные.
Проехав через ворота, мы въехали в Предгорье. Оно закрыто валом и рвом, наполняемым из Трубеж-реки, омывающей Переяславль с северо-запада, с юго-запада город прикрывает Днепр. И только со стороны степи нет защиты, кроме крепостных стен, и нет иного предупреждения, кроме дозорного костра.
Я ехал в броне, сверху прикрытой корзном2, на голове сверкал даденный отцом шелом, отделанный серебром, на его острие развевался крохотный красный еловец3. Подбородная пряжка немного жала, но я не подавал виду. На левом боку меч на привязи, такоже отцом данный. К седлу приторочено копье мурмазецкое, лук со снятой тетивой. За спиной круглый щит на длинном ремне и тул4 с двадцаткой коленых стрел. В правой руке – шелкова плеточка, небольшая булава качалась на запястье левой руки.
На выезде из Предгорья мы столкнулись с въезжавшим купеческим караваном. Мимо нас проходили повозки тяжело груженные мехами, воском, пенькой, льном и еще невесть чем. Купцы поравнявшись с нами в пояс поклонились отцу.
– Ну и трудна ж торговлишка купеческа…, – отец взглядом проводил купеческий караван и продолжил,– В Киеве по весне купцы купляют лодки-однодеревки, что в верховьях кривичи делают. Близко к лету все сбираются до Витичева, оттоль и идут к порогам. Самый опасный четвертый порог – Неясыть. Тута товары выгружают, холопы коло шести тысяч шагов берегом идут. Печенеги ждут за порогами у самого Крорийского перевоза. Ежели их отразили, то до реки Селины не будет никакой опасности, а если на той реке ладьи к берегу прибьет, то печенеги тут как тут. Если все обошлось, то после Конопы, Константии, устья Варны и Дицины достигнешь Мисимврии, начального града Грецкой земли. – Батя закончил сию историю, так как мы уже подъезжали к первой стороже. Отец старея, стал очень любил сказывать всякое и обыкновенно чрезмерно затягивал. Поэтому я возблагодарил Бога за то, что первая сторожа находилась настолько близко, чтобы прервать отцово красноречие.
Сторожи стояли в степи на десяти верстах друг от друга и были похожи друг на друга. Возвышенное место с обязательным кострищем, землянка, под горкой, либо где-то поблизости – ручей. Сторожа была из четырех человек, каждую неделю сменяемых.
Ратные несли службу исправно, и мы не задерживаясь поскакали далее.
Тяжко летом доспехи носить. Тело преет, зудит, а не почешешься толком. Во время скачки еще свежо, ветерок обдувает тело, а остановишься – будто в бане – с неба палит, земля нагрета и жжет ноги через мягкие подошвы сапог.
Когда вдали завиднелась вторая сторожа мы приостановились. Я задал отцу, давно интересовавший меня вопрос:
– Почто ты бросил службу великому князю Владимиру? – Он бросил на меня настороженный взгляд и ответил:
– Так я ему и здесь служу.
– Здеся-то князь Афанасий, стало быть и чести меньше!
– Вишь ты какой, – батя улыбнулся и погладил бороду, – На Руси за князем идут, а не князь гонит. Не пойдут – если князь назади останется. С бояр спрос еще больший. Бо, сыне, боярин сродство имеет с боем и знаменует воина храброго. Не устоит Переяславль без моей руки…, – батя махнул рукой, – Да и стар я уже во чистом поле поляковать. Един Илья – крестовый брат мой – не насытился еще ратными утехами. А остальных, кого я знавал, ужо и нет – кто в землю лег, кто в покое с жонкой, да детями жисть доживат…
Проверив последнюю сторожу, отец решил проехать вперед верст пять – до Босой горы, прозванной так за отсутствие на ней зелени, обыкновенной присущей степным горам. На Босой было еще возвышение – Старая гора, с которой было видно далеко окрест.
Отец отстал, остановившись напиться из ручья под горой, а я выехал на широкий пригорок и мне открылся вид степи, уже не вызывавший у меня былого восхищения – унылые кустарники, островками разбросанные до самого окоема, солнце бьет в глаза, на небе жидкие облачка, не сулящие дождя.
Голая печальная степь, лишенная убранства и тени лесов, усеянная костями несчастных странников. Вместо городов и селений – одни кладбища народов кочующих. Может быть в самой глубокой древности ходили здесь караваны купеческие, скифы и греки сражались с опасностью, нуждою и скукою, в надежде обогатиться золотом…
Я выпрямился в седле и перекинув булаву на запястье правой руки, прислонил правую ладонь ко лбу, закрываясь от солнца и обвел взором окрест, подражая Илье Муромцу, дружиннику князя Владимира. Этой повадкой своей мне запомнился Илья, когда останавливался у нас. Я был тогда годов осьми. Вот сильный мужик…
Они с отцом были большие друзья – крестовые братья, вместях много всякой нечисти положили. Таким хотелось бы и мне стать – говорят раз вышел Илья один на бой с двумя десятками печенегов и в бегство их поворотил, вожака – Ихтумена (Соловья по-нашему) пленил, и в Киев до великого князя Владимира привез…
Отец не любил рассказывать про свою молодость, но основное я из его жизни знал, собственно это была всем известная история.
В 6500 году от сотворения мира пришли печенеги из-за Сулы. Великий князь Владимир вышел им навстречу на Трубеж-реку, русский стали на одной стороне реки, печенеги – на другой, но ни те, ни другие не смели переехать на сторону противоположную. Тогда князь печенежский подъехал к реке, кликнул Владимира и сказал ему: «Выпусти своего мужа, а я своего, пусть борются. Если твой муж ударит моего, то не будем воевать три года, если же наш ударит, то будем воевать три года». Владимир согласился и возвратясь в стан, послал бирючей кликать клич: «Нет ли кого, кто б взялся биться с печенегом?» И никто нигде не отозвался. На другой день приехали печенеги и привели своего бойца, а с русской стороны никого не было. Начал тужить Владимир, послал опять по всем ратникам – и вот пришел к нему старик и сказал: «Князь! Есть у меня один сын меньшой дома, с четырьмя вышел я сюда, а тот дома остался, из детства еще никому не удавалось им ударить, однажды я его журил, а он мял кожу: так в сердцах он разорвал ее руками». Князь обрадовался, послал за силачом и рассказал ему в чем дело, тот отвечал: «Я не знаю, смогу ли сладить с печенегом, пусть меня испытают: нет ли где быка большого и сильного?» Нашли быка, разъярили его горячим железом и пустили. Когда бык бежал мимо силача, тот схватил его рукой за бок и вырвал кожу с мясом, сколько мог захватить рукой. Владимир сказал: «Можешь бороться с печенегом». На другой день пришли печенеги и стали кликать: «Где же ваш боец, а наш готов!» Владимир велел вооружиться своему, и оба выступили друг против друга. Выпустили печенеги своего, великана страшного, и когда выступил боец Владимиров, то печенег стал смеяться над ним, потому что тот был среднего роста. Размерили место между обоими полками и пустили борцов: они схватились и стали крепко жать друг друга, русский наконец сдавил печенега в руках до смерти и ударил им о землю, раздался крик в полках, печенеги побежали, русские погнали за ними. Владимир обрадовался, заложил город на броде, где стоял и назвал его Переяславлем, потому что борец русский перенял славу у печенега. Князь сделал богатыря вместе со старцем, отцом его, знатными мужами.
Этот богатырь и был мой отец Ян, получивший по бывшему своему ремеслу прозвище Усмович5. Отец участвовал во многих походах великого князя Владимира – и на печенегов, и на непокорных князей, заслужил себе славу великую, но почему-то прискучила ему жизнь раздольная, да кочевая и по просьбе своей был отпущен князем Владимиром в Переяславль воеводой к князю Афанасию…
Но что-то изменилось в степи за короткий миг. Так бывает – смотришь на только что виденное и вдруг замечаешь – не то что-то, что-то изменилось, а вот что именно – надо еще вглядываться вдаль и вглядываться…
Точно – вдали, на самом окоеме появилась жирная черная точка, а чуть впереди нее точки поменьше – караулы печенежские… Не обмануло отца предчувствие – идут печенеги!
Сзади подъехал отец:
– Сотен пятьдесят, – определил он и поворотил коня, – быстрей до сторожи! – я пришпорил Красавца и поскакал вдогонку за отцом.
На моей памяти печенеги уже приступали к городу три раза, последний – когда мне было годов пятнадцать. Запомнились горожане, ругающие со стен врагов и грозящие им секирами. Под валами тысячи конников, стрелы их летели стойно туче, затемняя солнце, но обычно втыкались в частоколы без всякого вреда и потом наполняли тулы княжеских дружинников.
Старшой сторожи – Кузьма Сиплый – могутный ратник годов сорока, со спускающимися до ключиц усами сразу же вопросил:
– Поджигать? – Батя кивнул. Из землянки вышли ратные – Степан и Онуфрий – молодые вои, годов на пять старшей меня. Увидав занимавшийся сигнальный костер Степан спросил:
– Много? – Отец кивнул:
– Сотен пятьдесят, – Степан покачал головой. Онуфрий выругался и пошел в землянку собираться.
– К вечеру быть с первой сторожей, – наказал отец Кузьме и пришпорил коня. Вдали уже еле заметно виднелся язык костра на соседней стороже. С приближением он вырастал в громадное кострище.
Мне стало тоскливо. Мы ехали вестниками беды и она шла впереди нас выраставшими кострами и уйти от этой неизбежной дороги не было возможности.
На огородах близ Трубежа гнули спины многие переяславцы. Они уже увидали загоревшиеся костры и нас – приближавшихся к городу вестников беды – воеводу с сыном.
Люди стояли вдоль дороги, вглядываясь в даль, будто не веря глазам своим. Не привыкать им было к опасному соседству со степью, но всякий раз они не хотели верить в то, что кончилось время мирных трудов и началось ратное время. И не соленый пот, а кровавый надо им утереть за родную землю.
Неверие это не было проявлением слабости, нет – эти люди сами приходили на окраины земли своей, чтобы боронить ее сохой и мечом. Их правнуки стали казаками: донскими, уральскими, кубанскими… Силен был корень, давший такое племя! А если и доводилось им уходить, то ничего не оставляли они врагу, даже названья городов и рек. Так возникли через годы еще два Переяславля: Залесский и Рязанский, тоже стоящие на реке по названию Трубеж.
Навстречу нам вышел Михалыч, отцов крестный, святой в Переяславле человек. Старый, в теплом кафтане, опирающийся на клюку – верно такими были калики перехожие, поднявшие Илью Муромца на службу Родине.
Батя спешился, я соскочил следом. Михалыч обнял отца, затем отстранившись, благословил его:
– Ну, Господь с тобою, сынок, – и повернулся ко мне. – Не подведи, Лександр, род отца своего, – и осенив меня крестным знамением, махнул нам рукой. – Поспешайте, дети мои!
В городе уже не осталось ни ремесленников, ни пахарей, ни купцов – все стали воинами. Босые мальцы с удивлением взирали на отцов и старших братьев, вытянувших из клетей дорогие дедовские брони и подгонявшие их так, чтоб сидели ладно и не терли тела в бою. Вострились мечи, подгонялась тетива на луки, выводились из конюшен холеные ратные кони. Уличные старосты, становившиеся при приближении врага десятниками, либо сотниками, проверяли подготовку подчиненных ратных. Люди одевались во все чистое. Так повелось издавна, ни кому не дано узнать остатний миг живота своего, но завсегда надо быть готовым к этому и помнить, что нет для мужчины ничего более почетного, как сложить голову свою защищая родную землю.
Княжьи хоромы были в два яруса, наверху светелка размером три сажени на четыре, внизу пять комнат, считая и зимнюю кухню, да кладовые. Изнутри в светелку ведет лестница, приложенная к задней, глухой стене. Высокое крыльцо – в рост человека, под шатровой крышей с низкими свесами от дождя, а под крыльцом дверь, за коей комнатка с тремя узкими дверями, на каждой – тяжелый замок. Тут поруб – темница.
Кинув поводья дворовому холопу, мы вошли в хоромы. Князь дневал в гридне.
– Хорошо дневали, княже! – Мы с отцом перекрестились и поклонились князю Афанасию. Князь был годов на десять моложе отца и телом послабже, хотя храбрости ему было не занимать, да другим и нельзя быть князю на самой границе земли Русской. Афанасий отодвинул блюдо и кивнул нам:
– Много ли войска идет?
– Сот пятьдесят. Одним не управиться.
– Надоть к Владимиру посылать…, – задумчиво сказал князь и налил чашу греческого вина до краев. – Пей, Ян.
_Здрав буди, княже! – Батя размашисто опружил чашу. Князь Афанасий налил чашу заново и протянул ее мне:
– Отведай зелена вина, витязь молодой! – сказал он с улыбкой.
Что-то обидное показалось мне в княжьих словах. Конечно – в дружине я самый молодший, в боях не был, но силы и храбрости мне не занимать. Взять хотя бы Юлашку-топтуна, старшей меня на три года, а слабак слабаком. Когда Дорофеичу дом ставили, не мог бревна толщиной в шесть вершков поднять, а я таких по два зараз поднимаю. Вот Юлашке князь так чашу не подносит, на равных с ним говорит. Видно заметив обиду на моем лице, Афанасий похлопал меня по плечу:
– Не бижайся, Лександр, все перемелется – мука будет. – я через это чуть вином не подавился. А чаша – ох и велика! В этом я не так силен, как другие, в два глотка никак не могу выпить княжеску чашу, един раз попробовал – чуть не с полчаши на кафтан пролил – смех получился, да и только. С того разу, ежили доводится пить таковую чашу, то я не тороплюсь, пью маленькими глотками и аккуратно. Нет для меня большего мучения. И выпить стойно всем не могу и после того как выпью муторит чего-то, не то чтобы там в голове хмель особый был, а в нутрях бурлит, отрыгивается неприятно, икается нежданно и неудобно. Бывает так, что из отхожего места не вылазишь целый день…
– Поднимай народ, Ян! Три сотни в сторожу к Трем дубам, остальных по стенам. Чаю к утру будем гостей встречать. И предупреди…, – князь погрозил пальцем, – ночью приеду проверю. Если Палыч опять хмелен будет – точно плетей у меня получит! – Отец кивнул в ответ. Афанасий повернулся ко мне:
– Лександр, вместях с Юлашкой поедешь до великого князя Владимира с моей грамотой. По Днепру туман – на костры надежы мало. Ты старшой. Выезжаете как к вечерне пробьет. Одвуконь, полная сряда… Вообщем, Ян, проследишь, чай в Киев едет, – Афанасий махнул рукой, считая разговор завершенным. Батя отправился к выходу , но я остался на месте:
– Я тут пригожусь! – выкрикнул я. Князь с удивлением посмотрел на меня.
– Князю не перечат! – сказал отец, так ввернув кулаком промежду лопаток, что я сразу же поворотившись пошел к выходу. Мы вышли на крыльцо, холоп подал нам лошадей, и мы направились к дому.
– Князь меня специально посылает, думает, что я в бою подведу!
– Дурень! – Отец легонько хлопнул меня по затылку, – Навоюешься ищо. Тебя как сына моего посылают. В таком деле знатный муж нужон. Мыслю яко это дело свершишь, така и слава о тебе пойдет. В Киеве побываш, город шибко большой, даром что великий князь живет. Крестовому брату Илье – кланяйся, – отец задумался, – Больше у меня тамо и знакомцев не осталось, все головы свои положили… Ты старшой, за все в ответе…, – Батя как всегда завелся – говорил о дорогах, людях, татях, но слова его проходили посторонь, я думал о Варе – как-то она отнесется к недолгому нашему расставанью?
Взволнованная мать стояла на крыльце, сожидая нас.
– Что там? – она с замиранием посмотрела на отца, как будто он мог словами развеять нагрянувшую бедую
– Лександр в Киев едет старшим с Юлашкой, – ответил отец, поднимаясь на крыльцо, – я ночью караулы проверять буду.
Помыв руки под рукомоем, седи снедать. Мать стояла рядом со столом и смотрела как жадно я ем, изголодавшись за день.
В голове и животе моем все смешалось – Варя, Киев, да и после княжеской чаши началось всегдашнее мое терзание. Только благодаря привычке, с детства внушенной отцом – доедать все, я оставил пустую тарелку и вскочил из-за стола.
Я нашел Варю на огороде близ Трубежа. Она кинулась навстречь, обняла и прижавшись к плечу спросила:
– Уезжаешь?
– Откуда узнала?
– Отец сказал, – Варя подняла на меня большие голубые глаза и тряхнула головой с большими, уложенными венцом косами, – А ежели убьют тебя, Саша, – и слезы наполнили глаза ее.
– Не надо, – я закрыл очи ее ладонью и почувствовал на ней слезы, – Что ж это ты меня живьем хоронишь, – я вытер слезинки с ее лица. Варя шмыгнула носом. – Все будет ладно. Не один еду…
– С кем?
– С Юлаем.
– С Топтуном-то? – через слезы улыбнулась Варя.
– Ну и что? – я попытался поцеловать ее, но Варя отшатнулась от меня, – Уйди, колючка. Сбрей ты эту свою бороду, – Варя уже не плакала и хитро смотрела на меня. Увидев, что я обиделся, она сам прильнула ко мне…
На Михайловском соборе девять раз отзвонил к вечерней службе колокол, когда я подъехал к княжьим хоромам. Князь был на Переяславской кузне и я послал за ним холопа.
Скоро подъехал и Юлашка-Топтун. Это был парень на три года старшей меня, в детстве лошадь повредила ему ногу и он с тех пор прихрамывал, но как-то необычно, поднимая целую правую ногу, он волочил левую, как бы притоптывая ей, за что и получил свое прозвище.
Юлай был на гнедом жеребце, за повод вел заводного коня с притороченной к седлу котомкой. Юлай был мрачен – он неделю как женился и видно ему не хотелось оставлять молодую жену, а может не было и желания мне подчиняться.
– Здорово, Лександр!
– Здорово, Юлай! Что не весел? – я спрыгнул с коня.
– Да нечему радоваться, – Юлай спешился и встал рядом со мной, поигрывая булавой, но разговор продолжать не стал.
Князь прискакал, пахнущий кузнечным жаром, кивнул в ответ на наши поклоны и забежав в хоромы, вынес грамоту:
– В руки великому князю Владимиру, – я схоронил грамоту в кошель на груди, – На печенежские караулы не наткнитесь. Не подведите. Обнимемся, – князь обнял нас троекратно и перекрестил, – С богом! – Мы вскочили на лошадей и не оглядываясь выехали из города.
Ехали молча. Не знаю о чем думал Юлай, но меня стала мучить вечная моя напасть из-за княжеской чаши. Я терпел, но когда степь закончилась и начался редкий приднепровский лес, терпенье мое лопнуло:
– Юлай, встанем, мне по большому треба.
– Чтой-то это тебя вдруг? – усмехнулся Юлай.
– Да съел что-то.
– Тогда на вон той опушке встретимся, – Юлай показал куда-то вперед, а я тут же сполз с коня и присел около куста.
Когда я уже завязывал бечеву на портах, то послышался звон мечей, топот и ржание лошадей. Я накинул корзно, схватил Красавца с Быстрым и отошел под прикрытие деревьев. Вдали проехали всадники. Это были печенеги, Юлай ехал связанный сзади.
Я сел под деревом, обхватив голову руками. Старшой! Обосрался! Подручника потерял! Вот и первое серьезное дело… Многие мысли проскочили в голове моей, но что было делать теперь, порученное надо выполнить обязательно.
Я распустил чересседельник, ослабил сбрую, надел коням на морды торбы с ячменем, и они сразу же зажевали, бока у них зашевелились…
Надо было торопиться. Я похлопал коней по бокам, они закивали, как бы понимая, но лишь быстрее начали жевать, громко хрупая ячменем. Я затянул чересседельник, снял торбы, поправил узду и спрыгнул на Красавца…
II глава
Я скакал по лесной дороге в Киев с грамотой до великого князя Владимира – простой русский дружинник князя переяславского Афанасия. Я потерял подручника, не сделал ничего для его освобождения, мне было стыдно. Я опозорил отца своего – знаменитого Яна Усмовича.
Такие мысли приходили мне в голову, когда я смотрел на меч данный мне отцом. Он был подарен после Переяславского сражения отцу великим князем Владимиром. Меч работы редкой – длинной в два локтя, посередине – продольная ложбинка, рукоять украшена серебром с гравированным узором. Для отца меч стал слишком легок и короток.
Постепенно дорога развеяла мрачные мысли. Ветер свистел в ушах, упруго бил в лицо, развевал корзно за плечами. То лог, то приречный болотистый луг нет-нет да и выхватит из лесной шири добрый клок и снова отступит, давая волю сосняку и ельнику.
Причудливо бегут через лесные массивы реки. На удивление всем стоят окруженные соснами и елями, березами и осинами, рубленные русские городки. Редкими пашнями прижимаются к ним деревни и села.
Долгой чередой вспоминались события моей жизни…
На пятом году жизни, меня, как и всякого сына боярина, торжественно постригли и посадили на коня при священнике, боярах и гражданах Переяславля. Отцом был дан роскошный пир.
Годов до двенадцати я был обыкновенным отроком, мало чем отличавшимся от своих ровесников – носился по городу с ватагами друзей, стрелял из малого лука, сделанного отцом… Но все это изменилось, когда отдали меня в книжное учение к отцу Савватию, монаху Васильевского монастыря, греку, пришедшему некогда в Переяславль из Херсонеса.

