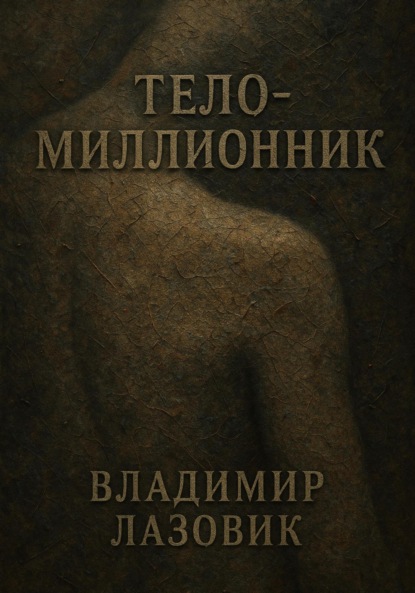
Полная версия:
Тело-миллионник
В дверном проеме кухни стояла Валентина. Но не та, которую он только что оставил в гостиной. Эта Валентина была лет на пятнадцать моложе. Высокая, стройная, с блестящими каштановыми волосами, уложенными в аккуратную прическу. На ней было простое, но элегантное домашнее платье нежно-голубого цвета. Лицо – красивое, с тонкими чертами, но бледное, напряженное. На щеках горели два неестественных красных пятна. Она держала в руках чашку, ее пальцы так сильно сжимали фарфор, что костяшки побелели. Взгляд был устремлен куда-то в сторону, в нем читалась смесь страха, обиды и отчаянной попытки сохранить самообладание.
Напротив нее, перегородив выход из кухни, стояла ее мать. Та самая, что он видел в первом видении. Седовласая, идеально причесанная, в строгом темном платье. Но теперь она не просто бубнила – она говорила. Голос ее не был громким, не срывался на крик, но в нем звенел такой ледяной металл, такая ядовитая злость, что это было страшнее любого крика.
"…И ты смеешь мне возражать?"– чеканила она каждое слово, ее тонкие губы почти не двигались. Она медленно, уничтожающе осматривала Валентину с головы до ног. "Посмотри на себя! Неблагодарная! Я всю жизнь на тебя положила! Все для тебя делала! А ты?!"Она сделала шаг ближе, вторгаясь в личное пространство дочери. Валентина инстинктивно отшатнулась, прижавшись спиной к кухонному гарнитуру.
"Мама, я просто сказала, что…"– начала было Валентина тихим, дрожащим голосом.
"Молчать!"– оборвала ее мать. Голос не повысился, но стал еще жестче, еще презрительнее. Она указала тонким, унизанным кольцами пальцем на лицо Валентины. "Ты думаешь, ты умнее меня? Думаешь, ты что-то из себя представляешь без меня? Да ты никто! Пустое место! Неумеха! Все, за что ты берешься, превращается в пыль!"
Она говорила и говорила, слова лились непрерывным потоком унижений. Она припоминала Валентине какие-то прошлые ошибки, реальные или вымышленные, высмеивала ее вкусы, ее друзей, ее работу, ее внешность. Каждое слово было как удар хлыстом, оставляющий невидимые, но глубокие раны. Она жестикулировала – не размахивала руками, нет, ее жесты были скупыми, точными, уничижительными: легкое пренебрежительное движение кистью, указующий перст, снисходительный наклон головы.
Валентина стояла не двигаясь, опустив голову. Чашка в ее руках дрожала. По ее щеке медленно скатилась слеза, оставив влажный след. Она не отвечала, не защищалась – видимо, знала, что это бесполезно, что любое слово будет использовано против нее. Она просто терпела, сжавшись под этим ледяным потоком вербального насилия.
Кит стоял в коридоре, прижав ладонь к стене, и чувствовал все это так, словно это происходило с ним. Удушливое чувство стыда, беспомощности, унижения захлестывало его. Он чувствовал запах духов матери – резкий, властный. Чувствовал напряжение в плечах Валентины, ее сбившееся дыхание, ее отчаянное желание исчезнуть, раствориться. Он хотел крикнуть, вмешаться, но, как и в прошлый раз в своей квартире, был лишь невидимым призраком.
Но на этот раз он не стал кричать. Он вспомнил, что крик не помог. Он сосредоточился на другом. Он направил всю свою эмпатию, всю свою волю на эту сцену. Он не пытался атаковать мать – он пытался… защитить Валентину. Мысленно он представлял себе щит, который встает между ней и потоком ядовитых слов. Он посылал ей волны поддержки, сочувствия, силы. «Ты не одна. Ты сильная. Ты справишься. Это неправда, то, что она говорит». Он повторял это снова и снова в своей голове, вкладывая в эти беззвучные слова всю свою энергию. Ладонь на стене горела, боль под лопаткой стала острее.
Проходили секунды, которые казались вечностью. Мать все говорила и говорила, но Киту показалось, что ее голос стал… тише? Менее уверенным? Или это его собственное восприятие менялось? Фигура матери начала слегка подрагивать, как изображение на старом телевизоре. Контуры ее строгого платья стали расплываться по краям.
И тут началось то же самое, что и в его квартире. Растворение. Медленное, неохотное. Фигуры матери и Валентины начали терять плотность, становиться прозрачными. Яркий свет из окна потускнел, запахи полироли и духов исчезли, сменившись знакомым запахом пыли и запустения. Ледяной голос матери превратился в невнятный шепот и стих. Последним исчез образ плачущей Валентины у кухонного гарнитура.
Комната вокруг него снова стала тусклой, захламленной прихожей. Кит стоял, тяжело дыша, ладонь все еще была прижата к стене. Он чувствовал знакомую слабость, головокружение. Но на этот раз было что-то еще. Не боль. А… тепло? Странное, едва заметное тепло разливалось по его руке от точки контакта со стеной. Он оторвал ладонь.
Видение исчезло. Полностью. Он снова был один в коридоре квартиры Валентины. Тишина была почти оглушительной. Он посмотрел на свою руку. Никаких новых пятен. Никаких видимых изменений. Только это странное, остаточное тепло. Ощущение странной легкости в воздухе смешивалось с тяжелой слабостью во всем теле. Кит чувствовал себя выжатым, но одновременно… удовлетворенным? Он сделал это. Он снова столкнулся с эхом прошлого и, кажется, смог его рассеять. Но цена… цена еще была неизвестна.
Он быстро натянул перчатку на все еще теплую ладонь. Нужно было уходить. Нельзя было оставаться здесь, чтобы Валентина что-то заподозрила. Он повернулся к входной двери, сделал шаг… и поморщился от резкой, простреливающей боли в правой ноге. Боль локализовалась где-то в районе лодыжки, с внешней стороны. Острая, внезапная, словно ему вонзили шило в сустав.
«Черт!» – выдохнул он сквозь зубы. Он попробовал перенести вес на левую ногу – боль немного отступила, но не исчезла совсем, оставшись тупым, ноющим фоном. Вот и плата. На этот раз – нога. Что там? Новый отросток? Или что-то еще?
Некогда было думать. Нельзя было показывать свою боль Валентине. Он заставил себя выпрямиться, стараясь не хромать слишком заметно. Быстро открыл входную дверь, шагнул на лестничную площадку и прикрыл за собой дверь, стараясь не хлопать.
"Всего доброго!"– крикнул он в сторону квартиры, надеясь, что голос звучит достаточно ровно.
Ответа не последовало.
Он начал спускаться по лестнице, и каждый шаг правой ногой отзывался вспышкой боли. Он цеплялся за перила, перенося на них часть веса, стараясь двигаться как можно быстрее. Паника начинала подниматься изнутри. Что с его ногой? Насколько это серьезно? Что он увидит, когда доберется домой и снимет брюки?
Улица встретила его тем же серым, промозглым днем. Он почти бежал, прихрамывая, игнорируя удивленные взгляды редких прохожих. Нужно было как можно скорее добраться до метро, до дома, до зеркала. Каждый шаг по неровному асфальту отдавался болью в лодыжке. Она пульсировала, ныла, горела. Он чувствовал, как под кожей что-то… происходит. Какое-то движение, напряжение, словно там шла невидимая, но активная перестройка.
В метро он почти ввалился в вагон, плюхнулся на первое попавшееся свободное место, стараясь не вытягивать больную ногу, чтобы не привлекать внимания. Люди вокруг казались размытыми пятнами. Он не видел их лиц, не слышал шума поезда. Все его сознание было сосредоточено на ноющей боли в лодыжке и на лихорадочных мыслях о том, что его ждет дома.
Он вспоминал видение – униженную, плачущую Валентину, ее деспотичную мать. Боль, которую он чувствовал тогда – стыд, беспомощность, гнев – была ли она как-то связана с этой новой физической болью? Может, его тело буквально «заземляло» чужие страдания, превращая их в физические аномалии? Костяной отросток – как символ окаменевшей боли избиваемой женщины? А что теперь? Что символизирует боль в лодыжке? Уязвимость? Желание убежать? Или что-то еще более странное?
Поездка показалась вечностью. Наконец, его станция. Он снова поднялся, превозмогая боль, и почти бегом выбрался из метро, на улицу. До дома оставалось несколько кварталов. Он шел быстро, хромая, не обращая внимания ни на что вокруг. Ключи дрожали в руке, когда он открывал дверь подъезда, потом дверь квартиры.
Захлопнув за собой дверь, он прислонился к ней спиной, тяжело дыша. Он дома. В безопасности. Относительной. Теперь нужно было узнать правду. С бешено колотящимся сердцем он, хромая, направился в спальню, к зеркалу. Время расплаты настало.
Кит стоял перед большим зеркалом в спальне, тяжело дыша. Руки его дрожали, когда он стягивал с себя одежду – сначала кардиган, потом водолазку. Костяной нарост на лопатке был на месте, холодный и чужеродный. Пластырь на руке он пока не трогал. Главное – нога.
Он сел на край кровати и осторожно, морщась от боли, закатал штанину на правой ноге. То, что он увидел, заставило его задохнуться от смеси ужаса и тошнотворного отвращения.
На внешней стороне голени, чуть выше лодыжки, там, где пульсировала боль, было… оно. Не просто шишка или синяк. Из его кожи, прорвав ее, торчал… язык. Человеческий язык. Бледно-розовый, влажный, с различимыми сосочками на поверхности. Он был небольшим, размером примерно с половину мизинца, но абсолютно реалистичным. Он не двигался, застыл в этом гротескном прорастании из его плоти, как какой-то сюрреалистический гриб. Кожа вокруг него была воспалена, покрасневшая, с мелкими капельками крови. Это было омерзительно. Абсолютно, тошнотворно омерзительно. К горлу подкатила волна желчи, Кит едва сдержал рвотный позыв.
Что это?! Почему язык?! Символ чего? Тех ядовитых слов, что он слышал в видении? Тех унижений, что обрушивала мать на Валентину? Или это символ его собственного крика, который он тогда подавил, заменив его мысленной защитой? Он не знал. Он просто смотрел на этот кусок плоти, торчащий из его ноги, и чувствовал, как его разум отказывается принимать эту реальность.
Но это был еще не конец. Взгляд его упал на колено той же правой ноги. Там, где штанина терлась при ходьбе, образовалась новая… короста. Но это была не обычная болячка. Она была сухой, твердой, и ее поверхность в точности повторяла текстуру и цвет старых, выцветших обоев из квартиры Валентины – тот самый неясный цветочный рисунок, те же потертости и мелкие трещинки. Площадь поражения была небольшой, размером с ладонь ребенка, но она была отчетливо видна. Кожа под ней зудела и горела.
Кит протянул дрожащую руку и осторожно коснулся сначала языка на лодыжке. Тот был мягким, теплым, живым. От прикосновения по телу прошла волна дрожи и отвращения. Потом он дотронулся до коросты на колене. Она была шершавой, сухой, как старая бумага. Под пальцами ощущался рельеф цветочного узора.
Он отдернул руку, как от огня.
Вот она, цена. Костяной палец на спине. Кусок кирпичной стены на руке. Теперь – язык на лодыжке и обои на колене. Его тело… оно превращалось в жуткий архив, в палимпсест чужих страданий и мест, где эти страдания происходили. Он становился ходячей инсталляцией боли, гротескным коллажем из плоти, камня и слов.
Он смотрел на свое отражение в зеркале – на бледное, искаженное ужасом лицо, на эти чудовищные аномалии на его теле – и чувство триумфа от того, что он смог «растворить» видение, полностью потонуло в волне гадливости и страха. Да, он, возможно, обрел какую-то силу. Но эта сила пожирала его изнутри, превращая его самого в монстра.
Он снова почувствовал тошноту, на этот раз сильнее. Добежал до ванной, склонился над унитазом, и его вырвало – желчью и остатками вчерашнего ужина. Он стоял на коленях на холодном кафельном полу, дрожа всем телом, чувствуя острую боль в лодыжке и жжение на колене. Смотреть на себя было невыносимо. Касаться себя – еще хуже. Он был заперт в этом теле, которое предавало его, которое мутировало под влиянием его проклятой эмпатии. И это было только начало. Сколько еще таких погружений он выдержит? Во что он превратится в итоге? Триумф? Нет. Это был кошмар. Медленный, неотвратимый, телесный кошмар.
Глава 8. Красная точка
Холодный кафель ванной сменился чуть менее холодным ламинатом коридора. Кит не помнил, как выполз туда. Просто обнаружил себя лежащим на полу, свернувшись почти в позу эмбриона, спиной к стене. Тело дрожало мелкой, противной дрожью. Вкус желчи во рту смешивался с металлическим привкусом страха. Боль в лодыжке пульсировала в такт бешено колотящемуся сердцу, а колено горело под несуществующими обоями.
Мысли были похожи на клубок спутанных, грязных ниток. Психоз. Слово всплывало снова и снова, настойчивое, логичное. Галлюцинации – слуховые, визуальные, теперь еще и тактильные, переходящие в соматические. Бред преследования (стены наблюдают). Мания величия (я могу очищать места)? Классика жанра. Он, Никита Нянчев, профессиональный психолог, видел десятки пациентов с похожими симптомами. И всегда знал, что им нужно – консультация психиатра, обследование, медикаментозное лечение.
Так почему же он лежит здесь, на полу, а не набирает номер клиники или хотя бы доверенного коллеги-психиатра?
Потому что… Потому что это было не так. Да, его разум кричал о психозе, о сбое в биохимии мозга. Но его тело… оно кричало о другом. О чем-то невозможном, но реальном. Можно ли галлюцинировать костяной отросток, который болит при надавливании? Можно ли вообразить кусок кирпича на руке, который кровоточит, когда его пытаешься содрать? Можно ли увидеть язык, торчащий из собственной голени, настолько детально, с сосочками, с влажным блеском?
Если он пойдет к врачу и опишет это – не просто видения, а эти чудовищные физические метаморфозы – его не просто диагностируют. Его признают глубоко, опасно больным. Его нашпигуют нейролептиками так, что он забудет собственное имя. Его запрут в палате с мягкими стенами. И никто не будет разбираться, реальны ли эти изменения. Их спишут на бред, на самоповреждение под влиянием психоза. Он потеряет все: практику, свободу, возможность понять, что с ним, черт возьми, происходит на самом деле.
И еще… Валентина. Видение в ее квартире растворилось. Он был уверен в этом. Что-то изменилось. Возможно, он действительно может влиять на эти… эманации? Если это так, то обращение к врачам поставит крест на этой возможности. Он снова станет бессильным наблюдателем, а его странный, ужасный дар (или проклятие?) будет подавлен таблетками. А как же те, кому он мог бы помочь? Его проклятая эмпатия, его комплекс спасителя не позволяли ему просто так сдаться.
«Сапожник без сапог…» – прошептал он. Да, он им был. Но в его случае поход к «сапожнику» казался не решением, а капитуляцией перед чем-то большим, чем просто болезнь. Он должен был разобраться сам. Хотя бы попытаться.
Но сомнения грызли. А что, если он действительно сходит с ума? Что, если все эти физические ужасы – лишь плод его больного воображения, настолько сильного, что оно влияет на его восприятие собственного тела? Ему нужна была проверка. Объективная. Внешняя.
Идея пришла внезапно, прорвавшись сквозь туман паники и отвращения. Фотография.
Превозмогая боль и дрожь, Кит дотянулся до кармана джинсов, брошенных на пол в спальне. Телефон. Он вернулся в коридор, сел, прислонившись к стене. Открыл камеру.
Нужно было сделать снимок так, чтобы не было видно ни его лица, ни квартиры. Он закатал штанину снова, стараясь не смотреть на отросток слишком долго. Выбрал ракурс – только голень и лодыжка на фоне нейтрального участка стены с ламинатом. Язык был виден отчетливо, мерзко. Щелчок затвора.
Теперь – кому отправить? Не родителям, не близким друзьям. Нужен был специалист, но достаточно далекий, чтобы не поднять панику и не начать немедленно его спасать. Был у него один знакомый терапевт, Олег, пересекались пару раз на конференциях. Обменивались контактами «на всякий случай». Кажется, он был вполне вменяемым.
Кит открыл мессенджер, нашел контакт Олега. Прикрепил фото. И написал короткое сообщение: "Олег, привет. Извини за беспокойство. Смотри, что мне переслали пациенты – какая-то дичь. Как думаешь, что это может быть? Просто интересно твое мнение как врача."Он перечитал. Звучало достаточно отстраненно, правдоподобно для психолога, столкнувшегося со странным случаем.
Но этого было мало. А что, если Олег не увидит язык на фото? Что, если это действительно чистая галлюцинация, не фиксируемая камерой? Тогда Кит будет выглядеть идиотом, приславшим фото нормальной ноги. Нужен был запасной план.
Он нашел в ящике стола красный маркер. Снова закатал штанину. Рядом с основанием мерзкого отростка, на чистом участке кожи, он нарисовал небольшую, неровную красную точку. Яркую, заметную. Похожую на воспаленную или быстро растущую родинку.
Теперь план был готов. Если Олег спросит: "Что за фигня с языком?", значит, он реален. Если же Олег спросит: "А что тут не так? Обычная нога,"или, что еще лучше: "Ты про эту красную точку? Похоже на родинку, лучше бы показаться дерматологу,"– значит, Кит сможет свернуть разговор на эту «опасную родинку», списав все на мнительность пациента, который ее прислал. Подстраховался.
Он отправил сообщение. Маленький значок «доставлено» появился под текстом. Теперь оставалось ждать. Ждать ответа, который мог либо подтвердить его худшие опасения о реальности происходящего кошмара, либо столкнуть его с еще более страшной правдой о собственном безумии. Он сидел на полу в коридоре, глядя на телефон, и чувствовал себя подопытной крысой в собственном жестоком эксперименте.
Телефон завибрировал в руке Кита спустя минут пятнадцать, которые показались ему вечностью. На экране высветилось уведомление от Олега. Сердце ухнуло куда-то вниз. Кит сделал глубокий вдох и открыл сообщение.
"Привет, Никита. Да уж, картинка не для слабонервных. Выглядит как врожденная аномалия – рудиментарный отросток. Что-то вроде атавизма. Я видел похожее пару раз, когда в Африке волонтерил по линии ВОЗ – там всякие чудеса встречаются, знаешь ли, из-за экологии, питания, генетики… Бывают и дополнительные пальцы, и хвостовидные придатки, и вот такие штуки, напоминающие другие органы. Обычно они с рождения, человек с этим живет, если не мешает функционально и не злокачественное (хотя проверить не мешало бы, конечно). А что, пациент только сейчас заметил? Или оно начало расти/меняться?"
Кит перечитал сообщение несколько раз. Мысли путались.
Успокоило:
Олег видел язык. Это не галлюцинация. Камера его зафиксировала, другой человек его видит. Значит, он не сходит с ума в классическом понимании. То, что происходит с его телом – реально.
Забеспокоило (и сильно):
"Врожденная аномалия"? "Рудиментарный отросток"? "С рождения"? Но ведь этого не было! Еще вчера утром его нога была совершенно нормальной! Этот язык появился после контакта со стеной в квартире Валентины! Олег, как врач, вписал увиденное в знакомую ему медицинскую картину мира, нашел рациональное объяснение. Но это объяснение было в корне неверным.
"Проверить не мешало бы". Да, конечно. И что Кит скажет врачу? "Знаете, этот врожденный язык у меня появился вчера после мистического сеанса"? Его тут же отправят к психиатру, даже если признают реальность отростка.
Сам факт, что такое возможно. Пусть и в редких случаях, пусть и в других странах. Но если человеческое тело способно на такие… сбои, на такие странные формирования, то что мешает какой-то внешней силе (или внутренней реакции на нее) запускать подобные процессы? Это делало происходящее с ним еще более жутким – не чисто мистическим, а каким-то… биологически извращенным.
Он понял, что проверка дала ему лишь частичный ответ. Он не сумасшедший. Но то, что с ним происходит – это нечто выходящее за рамки нормальной медицины. Объяснение Олега было логичным для врача, но абсолютно не подходило к ситуации Кита.
Нужно было ответить Олегу, чтобы не вызвать подозрений. Кит быстро напечатал:
"Понял, спасибо, Олег! Да, пациент утверждает, что заметил недавно, беспокоится. Я ему тоже посоветовал к врачу сходить, проверить на всякий случай. Еще раз спасибо за консультацию!"
Отправил и отложил телефон. Красная точка на ноге не понадобилась. Язык был реален. Как и кость на спине. Как и кирпич на руке. Как и обои на колене.
Он снова был один на один со своей чудовищной реальностью. Он не псих. Но его тело мутирует под воздействием чужой боли. И он понятия не имеет, как это остановить и во что он превратится дальше. Легче от этого знания не стало. Наоборот, стало только страшнее.
Осознание реальности происходящего, каким бы ужасным оно ни было, немного отрезвило Кита. Лежать на полу и предаваться панике было непродуктивно. Жизнь, как бы странно это ни звучало, продолжалась. И работа тоже. Сегодня вечером у него была назначена первая встреча с новой пациенткой, Полиной. Нужно было привести себя в порядок – и физически, и морально.
Он с трудом поднялся с пола, опираясь на стену. Нога все еще болела, но теперь к боли примешивалось мерзкое осознание того, что именно там болит. Он заставил себя не смотреть на лодыжку и колено. Сначала – базовые потребности.
Уборка. Квартира выглядела так, словно в ней взорвалась мусорная корзина после вчерашнего пира и сегодняшней паники. Пустые коробки из-под пиццы, банки, фантики, одежда, разбросанная мозаика… Этот хаос слишком сильно резонировал с его внутренним состоянием. Он не мог принимать нового человека в такой обстановке. Превозмогая слабость и боль в ноге, он принялся за уборку. Собрал мусор в большой пакет. Сложил коробки. Смел кусочки мозаики обратно в коробку – собирать ее он пока был не готов. Протер пыль, стараясь делать это тряпкой, минимально касаясь поверхностей руками, даже в перчатках. Навел относительный порядок в гостиной-кабинете, расставил кресла, поправил книги. Физическая активность немного отвлекла его от мрачных мыслей, хотя каждый шаг правой ногой напоминал о новой реальности.
Гигиена. Следующий пункт – душ. Мысль о том, чтобы раздеться и увидеть свое тело полностью, была неприятной. Но ходить грязным и потным было еще хуже. Он пошел в ванную, стараясь не смотреть на унитаз, где его недавно рвало. Включил воду – погорячее, чтобы пар заполнил кабинку, скрывая детали. Он быстро разделся, избегая взгляда на свое отражение в запотевшем зеркале. Шагнул под струи воды. Горячая вода немного расслабила ноющие мышцы, но боль в лодыжке и спине никуда не делась. Он мылся быстро, почти механически, стараясь не касаться аномальных участков на теле. Ощущение мыльной пены на костяном отростке или на языке было бы слишком омерзительным. Он потер себя мочалкой, смыл пену, выключил воду. Быстро вытерся полотенцем, снова избегая смотреть на себя. Ощущение чистоты немного взбодрило, но чувство отвращения к собственному телу осталось. Он обработал ранку на руке под пластырем и место вокруг языка антисептиком – на всякий случай.
Одежда. Он снова выбрал закрытую одежду. Чистая водолазка, другие брюки, носки, скрывающие лодыжку. Перчатки пока отложил – до прихода пациентки.
Еда. После вчерашнего обжорства и утренней рвоты аппетита не было совсем. Но ему нужны были силы. Он заставил себя пойти на кухню. Готовить что-то сложное не было ни сил, ни желания. Он сварил пару яиц вкрутую, сделал простой бутерброд с сыром, налил стакан кефира. Сел за стол и медленно, через силу, съел эту простую еду. Она не принесла удовольствия, но дала необходимый минимум энергии.
Пока ел, он думал о Полине. Он почти ничего о ней не знал, кроме краткого запроса по телефону – тревожность, проблемы со сном, трудности в общении. Новая история, новый человек. Сможет ли он сосредоточиться на ней? Не будет ли его собственное состояние мешать работе? Он должен был постараться. Это было его единственное спасение от погружения в собственный кошмар – помогать другим.
Он убрал посуду, посмотрел на часы. До прихода Полины оставалось около часа. Он сел в свое рабочее кресло, снова надел перчатки. Закрыл глаза, попытался сделать несколько дыхательных упражнений, чтобы успокоиться и собраться. Боль в ноге, боль в спине, зуд на колене, отвращение к себе – все это нужно было задвинуть на задний план. Сейчас он должен быть психологом. Спокойным, внимательным, эмпатичным. Несмотря ни на что. Он готовился к встрече, как актер готовится к выходу на сцену, надевая маску профессионализма поверх своих кровоточащих ран.
Кит уловил знакомое имя в потоке горьких слов Полины. "Вы упомянули Валентину,"– мягко заметил он. "Вы знакомы?"
Полина кивнула, немного удивленная вопросом. "Да… Валентина Сергеевна… Мы… мы иногда пересекаемся на встречах группы поддержки. По потере близких". Она сделала паузу, словно собираясь с силами сказать что-то важное. "У меня… у меня недавно отец умер. Он был… единственным, кто меня хоть как-то понимал. Хоть и не мог защитить от мамы". В ее голосе прозвучала неприкрытая скорбь.



