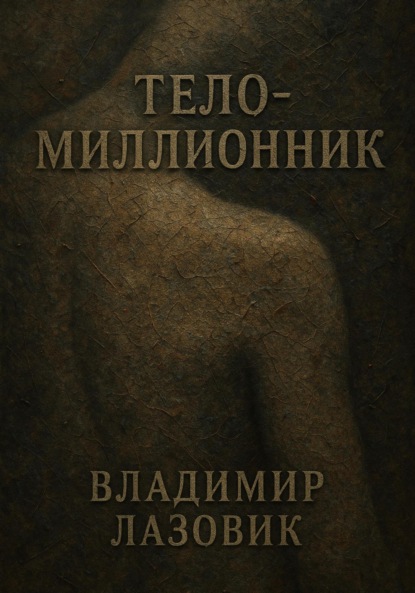
Полная версия:
Тело-миллионник
Он ждал следующего визита к Валентине с лихорадочным нетерпением, смешанным с ужасом. Каждая ночь была пыткой – он плохо спал, ворочался, ему снились обрывки видений, старые стены, крошащаяся штукатурка и собственные руки, покрывающиеся трещинами. Днем он был рассеян, постоянно проверял пластырь на руке, ощупывал спину сквозь одежду. Он готовился к этому погружению, как готовятся к прыжку в ледяную воду с огромной высоты. Зная, что это будет больно, страшно, и не имея ни малейшего представления, что ждет его на дне. Но он должен был прыгнуть.
Вечер перед визитом к Валентине был временем для другого ритуала – не рабочего, а личного. Визит к родителям. Раз в неделю, по субботам, Кит ездил к ним на ужин. Их квартира в тихом спальном районе на другом конце города была для него островком покоя и безусловного принятия, полной противоположностью тем бурлящим котлам чужих драм, в которых он варился всю неделю.
Его родители, Сергей Петрович и Анна Ильинична, были уже на пенсии. Инженер-конструктор и учительница музыки. Простые, интеллигентные люди, прожившие вместе больше сорока лет в любви и согласии, которое казалось Киту почти чудом на фоне тех историй, что он слышал каждый день. Они всегда поддерживали сына, гордились его выбором профессии, хоть и не до конца понимали ее специфику, и беспокоились, что он слишком много работает и «совсем себя не бережет».
Кит любил эти вечера. В их уютной, немного старомодной квартире, пахнущей мамиными пирогами и папиным табаком (он курил только на балконе, но запах все равно проникал), он мог немного выдохнуть, сбросить напряжение. Здесь не нужно было быть психологом Нянчевым. Можно было быть просто Кирюшей, их сыном.
Он вошел в квартиру, оставив перчатки в кармане куртки – здесь они были не нужны. Его встретили объятиями, теплыми, искренними. Мама тут же начала суетиться, предлагая тапочки и спрашивая, не голоден ли он. Отец вышел из комнаты с газетой в руках, улыбнулся своей спокойной, доброй улыбкой.
"Привет, сын. Как неделя?"– спросил он, пожимая руку.
"Привет, пап. Привет, мам. Нормально, работаем,"– Кит старался говорить бодро, скрывая усталость и внутреннюю сумятицу.
Ужин был простым, домашним: запеченная курица с картошкой, салат «Оливье» (мама знала, что он его любит), яблочный пирог на десерт. Разговоры текли неспешно – о соседях, о погоде, о прочитанных книгах, о планах на дачу. Родители деликатно не лезли с расспросами о его работе, зная, что он не любит об этом говорить. Они просто создавали атмосферу тепла и уюта, в которой он мог расслабиться.
Кит смотрел на них – на морщинки у глаз отца, когда он смеялся, на мягкие, заботливые руки матери, разливающие чай, – и думал о том, как ему повезло. У него было то, чего были лишены многие его пациенты – надежный тыл, ощущение безусловной любви и принятия с самого детства. Ни криков, ни унижений, ни эмоциональных качелей. Просто спокойная, ровная, поддерживающая любовь.
Именно это, как он понимал, и сформировало его. Дало ему ту самую здоровую психику, ту эмпатию, которая не была искажена собственными травмами. Он умел сочувствовать, не разрушаясь (по крайней мере, до недавнего времени). Он мог видеть чужую боль и искренне хотеть помочь, потому что сам знал, что такое тепло и безопасность. Возможно, именно поэтому он и выбрал эту профессию – как способ поделиться тем, что у него было в избытке? Как способ восстановить справедливость для тех, кому повезло меньше?
Он помогал Андрею, который так и не научился верить в себя из-за вечных сравнений с «более успешными». Помогал Евгении, чей страх покинутости был родом из ее собственного холодного детства. Помогал Валентине, задыхающейся в тени деспотичной матери. Помогал Пласкому, Марку, Борису… Всем тем, чье детство или дальнейшая жизнь оставили на их душах глубокие шрамы.
Мысль о том, что он, выросший в любви и тепле, теперь добровольно погружается в самые темные уголки чужих страданий, платя за это своим телом, казалась странной, почти ироничной. Но в то же время – единственно правильной. Он получил этот ресурс – здоровую психику, эмпатию – и теперь использовал его, чтобы помочь тем, у кого этого ресурса не было. Это был его способ отдать долг. Своего рода служение.
Он допил чай, поблагодарил маму за ужин. Вечер подходил к концу. Скоро нужно было ехать домой, готовиться к завтрашнему дню, к визиту к Валентине, к новому погружению. Но несколько часов в родительском доме дали ему то, чего не могла дать ни еда, ни сон – ощущение внутренней опоры, напоминание о том, что в мире есть не только боль и страх, но и любовь, тепло, надежда. Этого должно было хватить. По крайней мере, он на это рассчитывал.
Вернувшись от родителей, Кит почувствовал, как островок спокойствия снова сменился привычной тревогой. Тишина его собственной квартиры давила, а мысли неумолимо возвращались к завтрашнему дню, к Валентине, к предстоящему эксперименту.
Он попытался занять себя чем-то привычным, заземляющим. Мозаика. Он снова сел на ковер перед рассыпанными кусочками. Пальцы машинально перебирали картонные фрагменты, сортировали по цвету, искали совпадающие грани. Но сосредоточиться не получалось.
Мысли уносили его прочь от мирного пейзажа с замком. Он видел перед собой захламленную квартиру Валентины. Чувствовал тот затхлый воздух. Слышал ее тихий, надтреснутый голос. И снова и снова прокручивал в голове план.
«Как подойти к стене? Незаметно? Или прямо сказать ей? Нет, это безумие. Испугается, решит, что я сумасшедший».
«Нужно выбрать момент. Когда она выйдет на кухню за водой? Или пока будет искать что-то в комнате?»
«Снять перчатку. Быстро. Прикоснуться. Сколько держать руку? Достаточно ли будет нескольких секунд, как в прошлый раз? Или нужно дольше? До того момента, как видение начнет растворяться?»
Пальцы замерли над кусочком синего неба. Он смотрел на него, но видел тусклый свет лампочки и фигуру матери Валентины, источающую яд тихого контроля.
«Что я почувствую на этот раз? Ту же удушающую атмосферу? Или что-то другое? Будет ли боль? Будут ли новые… изменения?»
Он невольно коснулся пальцами пластыря на руке, потом провел ладонью по спине, ощущая твердый костяной нарост под футболкой. Отвращение и страх снова подкатили к горлу.
«Готов ли я к этому? К тому, что мое тело станет еще более… чужим? Что, если это необратимо? Что, если я превращусь в монстра, ходячую коллекцию чужих травм?»
Кусочек мозаики выпал из его пальцев. Он не стал его поднимать.
«А если это сработает? Если Валентине действительно станет легче? Если хаос в ее квартире начнет отступать вместе с эхом прошлого в стенах? Стоит ли оно того?
Да. Ответ приходил сам собой, упрямый и неизбежный. Стоит.
«Нужно быть сильным. Сосредоточенным. Не паниковать. Выдержать. И… наблюдать. Что произойдет с видением? Что произойдет со мной? Что изменится в Валентине потом?»
Он встал с ковра, оставив мозаику недособранной. Подошел к окну. Ночной город жил своей жизнью, миллионы людей спали, любили, ссорились, страдали за этими светящимися окнами. А он стоял здесь, один на один со своей странной, пугающей способностью и решением использовать ее.
Завтра. Завтра он сделает это. Он не знал, к чему это приведет. Возможно, к катастрофе. Возможно, к прорыву. Возможно, ни к чему. Но он должен был попробовать. Ради Валентины. Ради себя. Ради ответа на вопрос, который теперь определял всю его жизнь: может ли эмпатия, доведенная до предела, стать не только проклятием, но и инструментом исцеления?
Он пошел в спальню. Лег в кровать, но знал, что сон придет не скоро. В голове продолжали крутиться сценарии завтрашнего дня, смешиваясь с обрывками видений и тягучим страхом перед неизвестностью. Напряжение нарастало. Завтрашний день обещал быть долгим.
Ночь оказалась пыткой. Кит ворочался в постели, пытаясь найти удобное положение, но тело казалось чужим, напряженным. Костяной нарост под лопаткой тупо ныл, не давая забыть о себе ни на минуту. Мысли о завтрашнем визите к Валентине крутились в голове безостановочно, как заезженная пластинка.
Он представлял себе ее квартиру, каждую деталь захламленного интерьера. Вспоминал ее лицо, ее голос. Снова и снова проигрывал в уме сценарий: вот он входит, вот они разговаривают, вот он ищет предлог, чтобы остаться одному… Момент прикосновения к стене вставал перед глазами с пугающей отчетливостью – холодная штукатурка под пальцами, резкая смена реальности, удушливая атмосфера видения…
Что будет дальше? Сможет ли он выдержать? Сможет ли «растворить» этот сгусток боли? И какой будет цена на этот раз? Он невольно ощупывал свое тело сквозь пижаму, ожидая найти новые жуткие изменения. Станет ли его кожа похожа на старые обои? Покроется ли плесенью? Начнет ли крошиться, как ветхая штукатурка?
Каждый шорох за окном, каждый скрип половицы в квартире заставлял его вздрагивать. Ему казалось, что стены его собственного дома тоже дышат, наблюдают, помнят… Он почти физически ощущал разлитую в воздухе города застарелую боль, словно его эмпатия прорвала последние барьеры и теперь он был беззащитен перед этим невидимым океаном страдания.
Он пытался использовать техники релаксации, которым учил своих пациентов: глубокое дыхание, мышечное расслабление, визуализация спокойного места… Но все было тщетно. Образы Валентины, ее матери, его собственного меняющегося тела были слишком навязчивы.
«Боже, как это изматывает…» – простонал он в подушку. Эта постоянная тревога, это ожидание чего-то ужасного, это чувство ответственности за то, что он собирался сделать – все это высасывало из него последние силы еще до того, как он что-либо предпринял. Он чувствовал себя канатоходцем, балансирующим над пропастью без страховки, и завтра ему предстояло сделать самый опасный шаг.
К рассвету он все-таки провалился в тяжелый, беспокойный сон, больше похожий на забытье. Ему снились длинные, пустые коридоры с обшарпанными стенами, которые шептали ему чужие истории. Он бежал по этим коридорам, пытаясь найти выход, но они только сужались, превращаясь в тесные, душные комнаты, где его ждали искаженные ужасом лица его пациентов. Он проснулся от собственного тихого крика, весь в холодном поту, с бешено колотящимся сердцем.
Утро пришло слишком быстро. Серое, хмурое, оно идеально соответствовало его внутреннему состоянию. Кит встал с кровати, чувствуя себя разбитым, не отдохнувшим, словно всю ночь разгружал вагоны. Впереди был день визита к Валентине. И он чувствовал себя абсолютно неподготовленным и смертельно уставшим еще до того, как этот день начался.
Кит одевался медленно, почти механически. Снова темная водолазка, скрывающая пластырь на руке и контуры тела. Снова свободный кардиган. Брюки. И обязательные теперь черные кожаные перчатки. Он посмотрел на себя в зеркало – бледное, уставшее лицо с темными кругами под глазами. Он выглядел как человек, идущий не на психотерапевтический сеанс, а на собственную казнь. Или, по крайней мере, на очень рискованную операцию без наркоза.
Выйдя из дома, он погрузился в атмосферу города, которая сегодня казалась ему особенно гнетущей. Нуарной. Небо было затянуто низкими серыми тучами, грозившими то ли дождем, то ли снегом. Уличные фонари, еще не погасшие в утренних сумерках, отбрасывали желтоватые, нездоровые блики на мокрый асфальт. Воздух был влажным, тяжелым, пахнущим выхлопными газами и прелой листвой.
Город вокруг него предстал не просто мегаполисом, а огромным, старым, больным организмом. Фасады домов казались лицами, покрытыми морщинами трещин и пигментными пятнами облупившейся краски. Окна – пустыми глазницами, хранящими тайны и страдания тех, кто жил за ними. Кит ехал в метро, и стук колес отзывался в его голове монотонным ритмом тревоги. Люди вокруг – хмурые, погруженные в свои мысли, с усталыми лицами – казались ему такими же носителями невидимых шрамов, как и он сам. Он старался ни к кому не прикасаться, держался за поручень только в перчатке, чувствуя под кожей холод металла и фантомное эхо сотен чужих рук, державшихся здесь до него.
Выйдя из метро, он пошел по улицам старого района, где жила Валентина. Здесь атмосфера упадка ощущалась еще сильнее. Дома были старыми, многие – с обшарпанными стенами, потрескавшимися балконами, темными, неопрятными подъездами. Кое-где виднелись следы недавних ремонтов – яркие пятна новой штукатурки на фоне общего запустения, но они лишь подчеркивали ветхость окружающего. Деревья стояли голые, их черные ветви переплетались над головой, как скрюченные пальцы. Во дворах ржавели детские качели, на бельевых веревках одиноко трепыхалось забытое кем-то полотенце. Тишина здесь была не спокойной, а зловещей, наполненной невысказанными историями, застывшими в камне и кирпиче.
Кит чувствовал, как город давит на него, как его собственная тревога резонирует с этой разлитой в воздухе меланхолией и скрытой болью. Он шел медленнее обычного, каждый шаг давался с трудом. Сердце стучало где-то в горле. Он достал сигарету, закурил прямо на ходу, жадно втягивая дым, пытаясь хоть как-то заглушить внутренний гул. Перчатки казались то спасительным барьером, то удушающей второй кожей.
Вот и нужный дом. Старая пятиэтажка с темными окнами и облезлым фасадом. Подъезд встретил его знакомым запахом сырости, старой краски и чего-то кисловатого. Лестничные пролеты были тускло освещены. Кит поднимался пешком, его шаги гулко отдавались в тишине. Каждый этаж казался шагом глубже в чью-то чужую, застывшую жизнь.
Он остановился перед дверью квартиры Валентины. Той самой дверью, за которой его ждал не просто сеанс, а рискованный прыжок в неизвестность. Он затушил сигарету о перила, сунул окурок в карман. Глубоко вздохнул, пытаясь унять дрожь в руках. Поднес палец в перчатке к кнопке звонка.
Нажал.
Звонок прозвучал так же тихо и нерешительно, как в прошлый раз. Секундное ожидание. Потом за дверью послышались шаги. Замок щелкнул.
Дверь приоткрылась. На пороге стояла Валентина. Все та же – бледная, в растянутом свитере, с растерянным взглядом.
"Здравствуйте, Никита Сергеевич,"– пробормотала она.
"Здравствуйте, Валентина Сергеевна,"– ответил Кит, стараясь, чтобы голос звучал ровно.
Он шагнул через порог, погружаясь в знакомый затхлый воздух ее квартиры, в ее застывшее время. Эксперимент начался.
Глава 7. Прикосновение
Шагнув за порог, Кит словно погрузился в стоячую воду. Воздух в квартире Валентины был таким же спертым, неподвижным, как и в прошлый раз. Все та же удушливая смесь пыли, несвежей еды и едва уловимых фантомных запахов прошлого. Ничего не изменилось. Абсолютно.
Горы одежды по-прежнему громоздились на стульях и подоконнике. Липкие кольца от чашек на журнальном столике казались еще более отчетливыми на слое пыли. Одинокий носок все так же свисал с абажура, как символ капитуляции перед хаосом. Посуда в кухонной раковине, видневшейся через дверной проем, кажется, только увеличилась в объеме. Беспорядок не стал больше, он просто… застыл. Как и сама Валентина, застывшая в своей боли и растерянности.
Для Кита это место теперь было не просто захламленной квартирой пациентки. С его обостренной до физического уровня эмпатией, с его знанием о том, что могут хранить стены, он ощущал атмосферу здесь иначе. Тяжесть была почти осязаемой. Казалось, сам воздух пропитан невысказанными обидами, тихим отчаянием, липким страхом перед материнским осуждением. Стены молчаливо давили, излучая холод застарелого несчастья. Ему пришлось сделать усилие, чтобы не отступить назад, на лестничную площадку.
Он снял куртку, стараясь не касаться стен голыми руками, хотя перчатки создавали барьер. Повесил ее на тот же крючок, что и в прошлый раз. Его движения были немного скованными – не только из-за перчаток, но и из-за внутреннего напряжения, которое сковало его мышцы. Боль под лопаткой тупо напомнила о себе.
Валентина молча наблюдала за ним своими большими, пустыми глазами. Она выглядела такой же потерянной, как и неделю назад. Кит не мог понять, выполнила ли она хоть одно из тех простых заданий, что он ей дал. Сейчас это было не главным.
Он прошел в комнату, привычно лавируя между завалами вещей. Обогнул шаткую стопку книг. И опустился на тот же стул, что и всегда – единственное относительно свободное место. Пружины знакомо скрипнули под его весом. Он положил рюкзак на колени, руки в перчатках легли на подлокотники. Он сидел. В самом центре этого застывшего хаоса, чувствуя, как стены наблюдают за ним, как воздух дрожит от невидимого напряжения. Он был готов. Или так ему казалось.
Кит сделал глубокий вдох, пытаясь отогнать собственные страхи и настроиться на рабочий лад. Сейчас он был психологом. Его личные демоны и странные эксперименты должны были подождать. Он сосредоточился на Валентине, сидевшей напротив на продавленном диване.
"Валентина Сергеевна, здравствуйте еще раз,"– начал он своим обычным, спокойным тоном. "Как прошла ваша неделя? Как вы себя чувствовали?"
Валентина пожала плечами, ее взгляд скользнул по Киту и снова уперся в ковер. "Нормально…"– пробормотала она. "Тихо". Слово «тихо» снова прозвучало в ее исполнении не как облегчение, а как констатация пустоты.
"Вы записывали задания, которые мы обсуждали в прошлый раз?"– мягко спросил Кит, кивнув на блокнот, который все так же лежал на журнальном столике среди чашек и пыли.
Она медленно протянула руку и взяла блокнот, открыла на нужной странице. Кит заметил, как дрожат ее пальцы. Она посмотрела на список, потом снова на ковер.
"Там… там нет галочек,"– призналась она почти шепотом. Голос ее был полон вины.
Кит не выказал ни удивления, ни осуждения. Это было ожидаемо. Сепарация и выход из привычного состояния апатии – процесс нелинейный.
"Хорошо,"– сказал он так же ровно. "Это не страшно. Расскажите, почему не получилось? Что помешало?"
Валентина молчала долго, теребя край старого пледа на диване. Кит терпеливо ждал, наблюдая за ней. Он видел борьбу, отражавшуюся на ее лице – желание оправдаться, стыд, апатию, которая сковывала любую инициативу.
"Я… я не знаю,"– наконец выдохнула она. "Я думала об этом… О том, чтобы пойти погулять… Но… Зачем?"Она подняла на него растерянный взгляд. "Куда идти? Что там делать? Дома… дома хотя бы понятно. Привычно".
«Избегание», – отметил про себя Кит. «Страх перед новым, непривычным. Возвращение к знакомому, пусть и деструктивному, паттерну поведения. Апатия как защита от необходимости принимать решения и действовать в незнакомой ситуации».
"А приготовить ужин?"– спросил он.
"Я… хотела,"– она снова опустила глаза. "Подошла к холодильнику… Посмотрела… И… просто не смогла. Кажется таким… сложным. Бессмысленным. Для кого готовить? Для себя? Проще… проще заказать пиццу. Или просто чай попить".
«Ангедония. Снижение мотивации. Ощущение бессмысленности обыденных действий. Классические симптомы депрессивного состояния, усугубленные ее специфической ситуацией потери объекта токсичной привязанности».
"А книга?"
"Я взяла одну… с полки,"– она махнула рукой в сторону книжного шкафа, заваленного вещами. "Полистала… Буквы расплываются… Мысли улетают… Не могу сосредоточиться".
«Нарушение концентрации внимания. Руминации, внутренний диалог, мешающий воспринимать внешнюю информацию».
Кит делал мысленные пометки. Картина была ясной. Валентина находилась в глубоком ступоре. Потеря матери, какой бы та ни была, выбила у нее последнюю опору, последнюю (пусть и кривую) систему координат. И теперь она была полностью дезориентирована, парализована страхом перед новой реальностью и чувством вины перед прошлым. Хаос в квартире был идеальным отражением ее внутреннего состояния.
Он наблюдал за ее позой – сгорбленная, закрытая. За ее мимикой – почти отсутствующей, застывшей маской апатии. За ее голосом – тихим, безжизненным. За ее взглядом – избегающим, потухшим. Все говорило о глубоком регрессе, об откате к состоянию беспомощности.
Нужно было снова пытаться ее расшевелить. Но очень осторожно. Не давить. Не требовать. А искать крошечные точки опоры, крошечные проблески желания или интереса.
"Валентина,"– начал он снова, подбирая слова. "Я понимаю, что сейчас все кажется сложным и бессмысленным. Это нормально – чувствовать себя так после того, что вы пережили. Ваша система как будто… перезагружается. И пока она не загрузилась полностью, все кажется серым и трудным".
Он видел, как она чуть заметно кивнула. Признание ее состояния, а не требование его изменить, было сейчас важнее всего. Он должен был снова попытаться нащупать ту ниточку, которая свяжет ее с реальностью, с самой собой. И параллельно… он готовился к другому, более радикальному вмешательству. Мысль об этом не покидала его ни на секунду, пока он вел этот трудный, вязкий диалог.
Кит продолжал сеанс, следуя выбранной тактике. Он не стал настаивать на выполнении заданий или упрекать Валентину в бездействии. Вместо этого он сосредоточился на валидации ее чувств, на нормализации ее состояния. Он говорил о том, что скорбь и растерянность после потери, особенно в таких сложных отношениях, – это тяжелый труд, который требует времени и сил, и что совершенно нормально чувствовать себя опустошенной и лишенной мотивации.
Они говорили о ее снах – тревожных, обрывочных. О чувстве пустоты, которое ее не покидало. О страхе перед будущим, которое казалось ей туманным и пугающим. Кит слушал внимательно, задавал уточняющие вопросы, помогал ей облечь ее смутные ощущения в слова. Он не предлагал готовых решений, не давал советов в этот раз. Его задачей было просто быть рядом, быть тем контейнером, в который она могла бы безопасно поместить часть своей боли и растерянности.
Он видел, что ей это нужно. Хотя ее апатия никуда не делась, в ее глазах время от времени появлялись проблески осознания, когда она слышала, что ее чувства – не признак ее «ненормальности», а закономерная реакция. Она все так же сидела сгорбившись, но ее дыхание стало чуть ровнее, пальцы перестали так нервно теребить плед.
Время сеанса подходило к концу. Кит понимал, что терапевтическая работа с Валентиной будет долгой, требующей огромного терпения. Но сейчас его мысли были уже не только об этом. Внутренне он готовился к другому этапу. К тому, ради чего он так напряженно ждал этого визита.
Он посмотрел на часы. Пора было заканчивать официальную часть.
"Валентина Сергеевна,"– сказал он мягко, но твердо, давая понять, что сеанс завершается. "Мы сегодня хорошо поработали. Вы смогли поделиться очень трудными чувствами, и это важный шаг. Не ругайте себя за то, что пока не получается делать какие-то активные действия. Позвольте себе просто быть в этом состоянии, но продолжайте наблюдать за собой, за своими мыслями и чувствами. И помните, что вы не одна".
Он медленно поднялся со стула. Пружины снова скрипнули. Валентина тоже подняла голову, посмотрела на него с привычной смесью растерянности и какой-то неясной надежды.
"Спасибо, Никита Сергеевич,"– пробормотала она.
"Я пойду,"– сказал Кит, подбирая свой рюкзак. "Берегите себя. Встретимся на следующей неделе в то же время".
Он кивнул ей и направился к выходу из комнаты, в коридор. Сердце заколотилось быстрее. Момент приближался.
Кит стоял в узком, тускло освещенном коридоре квартиры Валентины. За спиной осталась гостиная с ее застывшим хаосом, впереди – входная дверь, ведущая наружу, в относительную безопасность. Но он не спешил уходить. Сердце колотилось так сильно, что отдавалось в ушах гулким стуком. Ладони под перчатками вспотели. Он сделал несколько глубоких вдохов, пытаясь унять дрожь. Сейчас.
Он медленно повернулся к стене. Старые, выцветшие обои с неясным цветочным рисунком. Местами они были поцарапаны, кое-где виднелись темные пятна непонятного происхождения. Он выбрал участок стены рядом с дверным косяком, там, где обои были особенно потертыми, словно их часто касались.
Медленно, почти не дыша, он стянул правую перчатку. Голая кожа ощутила прохладу воздуха. Он замер на мгновение, собираясь с духом. Потом решительно прижал ладонь к стене.
Удар. Не физический, но оглушающий. Мир вокруг него не просто изменился – он взорвался чужой реальностью, яркой, резкой, болезненно отчетливой.
Он стоял в том же коридоре, но все было другим. Свет – не тусклый электрический, а яркий, почти слепящий дневной свет, льющийся из окна кухни, которое теперь было распахнуто. Воздух был чистым, пахло свежевыстиранным бельем, лимонной полиролью для мебели и… дорогими духами. Цветочными, с легкой горчинкой. Пол сиял чистотой, на стенах не было ни пятнышка, обои выглядели свежими, хоть и старомодными. Квартира дышала порядком, почти стерильным.



