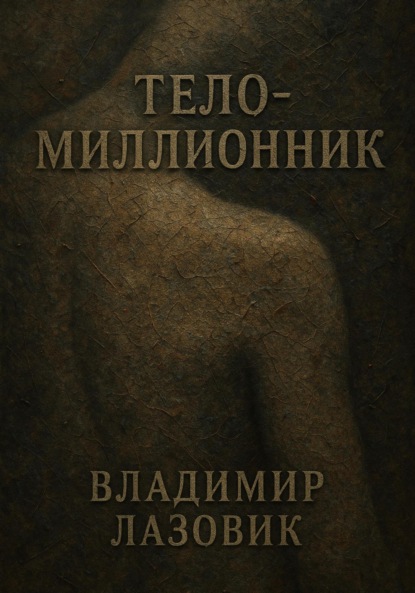
Полная версия:
Тело-миллионник
"Что именно лезет в голову, Евгения?"
"Ну… что это не работа," – прошептала она, словно произносила страшную тайну. "Что он не на совещании. Что он… с кем-то. Что он врет мне. Что он ищет повод, чтобы не идти домой. Что я ему надоела. Что он вот-вот скажет: 'Прости, я встретил другую'". Она произносила это быстро, сбивчиво, словно боясь не успеть выговорить весь свой страх.
"И как вы себя чувствовали, когда эти мысли приходили?"
"Ужасно!" – она вскинула на него глаза, полные отчаяния. "Сердце колотится, руки холодеют… Тошнит… Я ходила по квартире из угла в угол. Не могла ни читать, ни телевизор смотреть. Все валилось из рук. Я перебирала в голове все наши разговоры за последнюю неделю – где я что не так сказала? Чем я могла его обидеть? Может, я выглядела плохо утром? Может, ужин был невкусный вчера?" Ее голос дрожал все сильнее. "Я просто… сходила с ума от неизвестности".
"А когда он приходил домой? Что происходило?"
"Он приходил уставший. Говорил – тяжелый день. Извинялся, что не звонил. Целовал меня… Но я… я ему не верила," – призналась она тихо. "Я смотрела на него и искала… признаки. Запах чужих духов, след помады, просто… холодность во взгляде. Я задавала ему вопросы – как прошло совещание, кто там был… Он отвечал, но мне казалось – уклончиво. Раздраженно. Наверное, потому что врал".
"Или, возможно, потому что устал и чувствовал ваше недоверие?" – мягко предположил Кит.
Евгения вздрогнула, но промолчала.
"А потом… в четверг… он пришел позже обычного," – продолжила она еще тише. "Сказал, что после работы зашел выпить пива с коллегой. Просто расслабиться. А я… я не поверила. Я устроила ему… допрос. С кем пил? Где? Почему меня не позвал? Он… он разозлился. Сказал, что я его контролирую, что он имеет право на личное пространство. Мы… поругались". В ее глазах блеснули слезы. Она быстро смахнула их тыльной стороной ладони.
"И теперь… теперь я уверена, что он уйдет," – закончила она почти беззвучно. "После этой ссоры… он точно понял, что я ему не доверяю. Что я… невыносима. Он найдет кого-то… спокойного. Нормального. А меня бросит. Это только вопрос времени".
Она сидела, сжавшись в кресле, излучая волны страха и отчаяния. Ее идеальная прическа, строгая одежда – все это казалось теперь лишь хрупкой оболочкой, под которой бушевала буря паники. Она не просто боялась – она знала, она была убеждена в неизбежности катастрофы. Ее тревога создала реальность, в которой любое действие мужа подтверждало ее худшие опасения, и эта реальность теперь душила ее саму.
Кит слушал Евгению, и ее рассказ ложился на уже знакомую ему матрицу ее страхов. Каждое слово, каждая деталь лишь подтверждали диагноз, который он поставил ранее. Он наблюдал за ее мимикой, жестами, за тем, как менялся тон ее голоса, как дрожали ее руки, как метался взгляд. Все это были внешние проявления глубоко укоренившейся тревоги привязанности.
Он мысленно фиксировал ключевые моменты, паттерны ее мышления и поведения:
Катастрофизация: Задержка мужа на работе = он точно с другой = он меня бросит. Одна ссора = конец отношениям. Любое событие немедленно раздувается до масштабов апокалипсиса. Нет места для альтернативных, менее пугающих объяснений.
Чтение мыслей и негативная интерпретация: Она уверена, что знает, о чем думает муж ("он врет", "я ему надоела"). Любое его действие (усталость, раздражение, желание побыть одному) интерпретируется исключительно как подтверждение ее страхов, как признак его неверности или желания уйти. Позитивные или нейтральные сигналы (извинения, поцелуи) обесцениваются или игнорируются.
Потребность в контроле как способ справиться с тревогой: Ее допросы, попытки отследить каждый шаг мужа – это не проявление ревности или желания доминировать. Это отчаянная, хоть и контрпродуктивная, попытка снизить невыносимую тревогу неизвестности. Если она будет знать все, контролировать все – возможно, она сможет предотвратить катастрофу. Но на деле это лишь усиливает напряжение и отталкивает партнера.
Самообвинение и низкая самооценка: Она постоянно ищет причину предполагаемого ухода мужа в себе ("что я не так сказала?", "чем обидела?", "плохо выглядела?"). В основе лежит глубинное убеждение: "Я недостаточно хороша, чтобы меня любили просто так. Если он уйдет – это моя вина".
Самосбывающееся пророчество: Ее страх и подозрительность создают напряженную атмосферу в доме. Ее контроль и допросы вызывают у мужа раздражение и желание дистанцироваться (что абсолютно нормальная реакция на нарушение границ). Она воспринимает эту дистанцию как подтверждение своих страхов ("он отдаляется, значит, хочет уйти!"), что заставляет ее еще сильнее цепляться и контролировать. Она сама, своим поведением, подталкивает отношения к тому кризису, которого так боится.
Кит чувствовал ее боль, ее панику. Это было похоже на ощущение человека, тонущего в трясине собственных страхов – чем больше он барахтается, тем глубже погружается. Просто сказать ей: "Вы все придумываете, ваш муж вас любит" – было бы бесполезно и даже вредно. Ее страх был для нее абсолютно реален. Он пронизывал всю ее жизнь.
Что ей сказать? Как помочь ей выбраться из этой ловушки?
«Нужно начать с валидации, как и с Андреем», – подумал Кит. «Признать ее страх, ее боль. Показать, что я понимаю, как ей тяжело жить в этом постоянном напряжении. Не спорить с ее интерпретациями напрямую, это вызовет только сопротивление».
«Потом – очень осторожно посеять сомнение. Не в любви мужа, а в ее собственных катастрофических выводах. 'Евгения, я слышу ваш страх. Но давайте попробуем посмотреть на ситуацию немного с другой стороны. Могли ли быть другие причины, по которым ваш муж задержался? Могла ли его усталость быть просто усталостью? Могло ли его раздражение быть реакцией на допрос, а не на желание что-то скрыть?' Задавать вопросы, которые помогут ей самой увидеть альтернативные объяснения».
«Сфокусироваться на ее чувствах и потребностях. 'Что вы чувствовали, когда сидели одна с остывшим ужином? Не только страх, может быть, еще обиду? Одиночество? Что вам было нужно в тот момент от мужа?' Помочь ей осознать и легализовать свои собственные эмоции и потребности, не связанные напрямую с его предполагаемой неверностью».
«И снова – работа с самооценкой. Возвращать ее к себе. 'Даже если бы самый худший ваш страх сбылся – что бы это говорило о вас? Означало бы это, что вы плохой, недостойный человек? Или это говорило бы больше о выборе другого человека?' Помочь ей отделить свою ценность от наличия или отсутствия рядом мужчины».
«Возможно, предложить конкретные поведенческие эксперименты. 'Попробуйте на этой неделе, когда почувствуете приступ тревоги, не задавать мужу контрольных вопросов, а вместо этого сказать ему о своем чувстве. Например: 'Я чувствую себя одиноко и тревожно, когда ты задерживаешься и не отвечаешь на звонки'. Посмотреть, что из этого выйдет. Сместить фокус с контроля на выражение собственных чувств».
Работа предстояла долгая и кропотливая. Нужно было помочь Евгении построить внутреннюю опору, которая позволила бы ей выдерживать неопределенность жизни и отношений, не разрушаясь от страха. Кит глубоко вздохнул, собираясь с силами. Он должен был быть для нее тем самым надежным, неосуждающим зеркалом, в котором она сможет увидеть не только свои страхи, но и свою силу.
"Евгения," – Кит начал говорить мягко, но уверенно, его голос был наполнен спокойной эмпатией. Он смотрел ей в глаза, стараясь поймать и удержать ее блуждающий взгляд. "Я слышу, как вам было тяжело на этой неделе. Этот страх, эта неизвестность, это ощущение, что земля уходит из-под ног – это очень мучительные переживания. И то, что вы пришли сюда и смогли об этом рассказать, требует большого мужества".
Евгения слушала, ее напряжение чуть ослабло от того, что ее чувства признали, не обесценили. Она кивнула, все еще не решаясь посмотреть Киту прямо в глаза.
"Вы описали ситуацию, когда ваш муж задержался, а вы остались дома одна с ужином и ужасными мыслями," – продолжил Кит. "Давайте попробуем разобрать этот момент. Вы сказали, что перебирали в голове, что вы сделали не так. Словно причина его возможного ухода – обязательно в вас. Но что, если это не так? Что, если его задержка на работе – это просто задержка на работе? А его усталость – это просто усталость после тяжелого дня? Мы не можем знать наверняка, что происходит в голове у другого человека, Евгения. Мы можем только предполагать. И очень часто наша тревога заставляет нас выбирать самые худшие, самые болезненные предположения".
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Вы ознакомились с фрагментом книги.
Для бесплатного чтения открыта только часть текста.
Приобретайте полный текст книги у нашего партнера:
Полная версия книги
Всего 10 форматов

