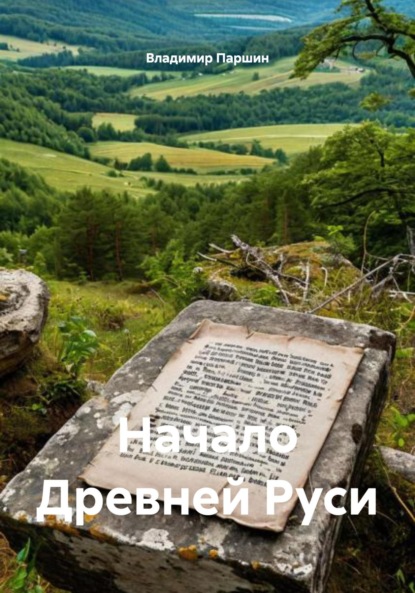
Полная версия:
Начало Древней Руси
Считается, что колюще-рубящее оружие на территорию Древней Руси могло поступать только из Западной Европы. Но так ли это однозначно? Например, в салтово-маяцких погребениях находят много вооружения. При этом оппоненты говорят, что там только сабли. Прежде всего, все колюще рубящее оружие типа меч, сабля, палаш арабы называли одним и тем же словом «sаif/sayf». Согласно [187]: «Хотя салтовские клинки и именуются саблями, этот термин не совсем точен. Это следует из того, что кривизна клинков очень слаба и лишь в некоторых случаях достигает кривизны слабо выгнутых сабель. Салтовская сабля – это, скорее, термин, под которым подразумевается особый вид клинков, сочетающий в себе признаки палаша и сабли. … В целом же эволюция клинкового оружия кочевников прослеживается достаточно четко. От прямых палашей кочевники постепенно переходят сначала к слабоизогнутым клинкам, а после и вовсе к саблям с ярко выраженной кривизной клинка, хотя и в позднее время использовались слабоизогнутые клинки.» Согласно [11]: «Следует учесть также, археологам известны и переходные формы европейского клинкового оружия условно называемые «однолезвийный меч-палаш», «кривой меч», «меч-сабля». И все эти формы, в виде отдельных экземпляров, обнаружены на территории салтовской культуры. … В Белгородской области сосредоточено 40% разведанных в России запасов железной руды, амежду городами Старый Оскол и Губкин находится крупнейший в стране металлургический комбинат и крупнейший в мире карьер по ее добыче. … чуть, южнее, в пределах все той же Белгородской области, на правом берегу реки Оскол, археологами раскопано так называемое Ютановское городище, на котором в первой половине IX века: «располагался крупнейший для того времени в Восточной Европе металлургический центр салтово-маяцкой культуры, основу которого составляли чернометаллургические технические установки, не только не имеющие себе равных, но и позволяющих рассматривать салтовское металлургическое производство как особую отрасль хозяйства – ремесло, дифференциация которого проходила в зависимости от вида исходного продукта». … Исследователи делят клинки салтовских оружейников на две группы – «первоклассные изделия с закаленными лезвиями» и высоким содержанием углерода (0.8-0.9%) и изделия «с рабочим краем, который был мягок и быстро тупился».»
Т. о., всем источникам – письменным и археологическим – локации первичной Руси соответствует территория междуречья Верхнего и Среднего Дона и Донца.
Отметим, что Ал-Якуби, живший в IX в. [250], освещая нападение на Испанскую Севилью в 843–844 гг., указывает на русов. Но комментарий А.Я. Гаркави [31], говорит о том, что слова «которых называют Рус» принадлежат не самому Якуби, а переписчику. «Из большого числа арабских писателей, описывавших нашествие Маджус на Испанию в 844 году, как например Аль-Бекри, Абуль-Феда, Нувайри, Маккари и многие другие, никто даже не намекает о русском их происхождении, что при преемственности арабских писателей, особенно у древнейших, было бы более чем странно, если б Якуби утверждал подобное…». Значит, русы не были и тогда широко известны в арабской географической литературе. Т. о., данный факт у Якуби не имеет отношения к русам. Дополнительно приведем цитату Т.М. Калининой из [70]: «на западе исламского мира норманны были известны под именами ал-маджус и ал-урдуманийа, название же ар-рус там не применялось.»
Т. о., можно зафиксировать, что в IX в., согласно синхронным письменным источникам и данным археологии первичная Русь располагалась на территории СМК (в междуречье верхнего и среднего Дона и Донца), а сами русы в то время были смешанным с аланами этносом. О других русах и их локациях письменные источники того времени информации не содержат.
Теперь вернемся к социониму «русь» на северо-западе. Какую цель преследовал этот соционим? Полагаю, что контроль международных торговых путей. Все международные торговые пути связывали Западную и Северную Европу с Ближним Востоком. Через территорию Древней Руси в то время (IX – «сухой» век) проходили Волго-Донской и Волго-Балтийский пути. Ответвлениями на этих путях были долины рек – притоков Дона, Волги и Волхова. Все участки торговых путей маркируются находками монет, которые являются предметом изучения нумизматики. Относительно Донского пути ничего не понятного в принципе нет. Переход из Дона в Волгу охраняли ставленики хазарского каганата. Значит пошлину брал каганат. Переход в Каспий – тоже. На стыке Черного и Азовского морей пошлина в Керчи вновь шла каганату. Очевидно, что социониму «русь» оставались только те участки, на которых власть хазар не распространялась. Согласно [40]: «Наиболее важным из них, несомненно, был Донской путь. В междуречье Дона и Оки наблюдается разделение этого пути по двум направлениям: на север, в устье р. Москвы, и на запад, с выходом на верховья р. Десны. … Многовариантность перехода из верховьев Дона на Упу и далее на Оку исключала возможность возникновения единого центра контроля этого участка пути. На отдельных его отрезках, прежде всего – на волоках, в начале IX в. возникли открытые поселения (Уткино, Торхово, Слободка). Однако их функцией было лишь обслуживание прохождения торговых караванов. Для контроля над всем узлом было создано поселение на городище Супруты. … Мобильная дружина, расположенная в центре перевалочного узла из Дона в Оку, могла эффективно контролировать все его участки.»
Волго-Балтийский путь состоял из самостоятельных участков, обслуживание которых осуществлялось местным населением. Так, например, Ладожский путь: Ладога – Городище (Рюриково) – Вышний Волочок – Торжок – Тверь. Далее шел Волжский отрезок (Волго-Клязьминское междуречье – ВКМ) до Булгара: от Твери по Волге на Углич – Ярославль – Кострому – Нижний Новгород -Булгар; от Углича также шли по дорогам на Сарское городище (оз. Неро) – Тимерёвское поселение – Ярославль. Были еще Двинский путь – Западная Двина с притоками; Днепровский путь – Днепр с притоками; Окский путь – Ока с притоками. Учитывая климатическую ситуацию того времени (самый сухой период и снижение уровня вод на 3-4 м) основным маршрутом был сухопутный (вдоль русла рек). Данная т. зр. подтверждается в [60], в частности, относительно пути Дон – Ока – Волга – Тверца – Мста с дальнейшим продолжением в Финский залив. «Передвижение по нему шло действительно не по воде, а сушей. То ли по льду рек, то ли их поймой. … шли там, где нужно было перетаскиваться из реки в реку не один раз. Даже из Окского междуречья в Волгу попадали не прямо по Оке, а через кучу речек, идущих на север. … То есть расстояние оказывалось явно важнее. А это говорит за сухопутный вариант.» О движении зимой сообщали арабские авторы. Причина в том, что в районе между Верхней Волгой и Окой снег держится в среднем 140 дней в году. Поздняя осень и ранняя зима являются тем временем года, когда мех пушных зверей самый густой и высококачественный.
Нумизматические исследования [118-Леонтьев, Носов; 147-Петров И.В.; 148-Петров И.В.; 186-Седых В.Н. Клады:] показали, что на всей территории Древней Руси практически не наблюдается находок в 850-е, 880-е и 890-е годы. В то же время есть десятилетия, в которые объемы сокрытий на торговых путях превышают 1000 монет (860-е – Двинский и ВКМ; 870-е – Ладожский, Двинский и Окский). При этом в годы больших сокрытий не упоминается сама Ладога, а максимальное сокрытие в регионе – д. Любынь (Шимский р-н, Новгородской), 873/74 г. (2361 экз.). Видимо, для Ладоги это следствие пожара около 865 г. В этот же период археологи отмечают пожары в Любше (позже крепость исчезла), во Пскове (псковское поселение рыугетской культуры) и Изборске.
Как объясняются учеными «выбросы» сокрытий?
Британский историк Питер Сойер [191] писал, что ««наличие тайников является признаком нестабильности, а не благополучия.» В.Н. Седых [186] также сторонник этой т. зр. В военных действиях видят причину невостребованости кладов в 860-е и 870-е годы В.А. Булкин и Д.А. Мачинский [21]. Т. о., клады с огромным количеством монет – это накопительные клады, зарытые в условиях опасности. Значит в 860-е и 870-е годы ситуация на северо-западе была нестабильной. А это как раз те годы, когда на северо-западе уже «княжит» летописный Рюрик и соционим «русь». Значит в какой-то момент перестал действовать летописный «ряд» и появилось «право сильного».
Почему же не было кладов в 880 и 890 гг.? Относительно 880-890-х годов П. Сойер [191] считал, что это объясняется тем, «что в конце IX столетия они были изъяты из обращения путем экспорта.» Под импортерами он подразумевал Скандинавию и Британские острова «разумеется, не на землях английской короны.» Историк Н.А. Хан [211; 212; 213] также констатирует поступление «монет последнего десятилетия 9 в. в большом числе» не только в Северную, но и в Центральную Европу. Но нет ни письменных, ни археологических свидетельств о столь широкой торговле северо-запада с Византией. Видимо, причина здесь в другом.
Поскольку поток серебра в Западную и Северную Европу не прекратился, а кладов в Руси нет, то возможны, на мой взгляд, два варианта: первый – устранение из процесса торговли местных купцов и монополия на торговлю представителями северной Европы; второй – стабильность ситуации на территории Древней Руси. Попытка обосновать первый вариант предпринята в [242]. Авторы посчитали количество населенных пунктов, в которых найден хотя бы один артефакт, относимый к скандинавским. Насчитали всего 22. И это при том, что даже находки гребней отнесли не в предметам торговли, а факту присутствия скандинавов. Следует отметить, что по классификации О.И. Давидан (на которую ссылаются авторы) гребни первой группы имеют очень широкую датировку: вторая половина IX – середина Х вв. Такая датировка позволяет отнести находки гребней и к Х веку. Поэтому для аргументации требуется анализ стратиграфического слоя, в котором найден артефакт. Но не ко всем находкам такой комментарий у авторов имеется. Многоцветная пронизка «привязана» к стратиграфическому слою Ладоги, а не к той местности и слою, где была найдена. Более того, фраза авторов «часть других местных скандинавских артефактов должна датироваться IX веком», свидетельствует о том, что ими высказывается предположение, а в итоге – выносится как утверждение. Относительно ланцетовидных стрел общепринятого решения до сих пор нет. Одни исследователи считают, что они связаны с североевропейской культурой, с памятниками Скандинавии и Прибалтики. Другие учёные полагают, что ланцетовидные стрелы характерны для кочевников Поволжья и были широко распространены. При такой ситуации находки должны исключаться из вопроса этнического определения. Т. о., первый вариант – полностью монополизировать торговлю на всей территории от Балтики до Волгит – не проходит.
Остается второй вариант – стабильная ситуация, которая не толкала к сокрытию накоплений. Такая ситуация могла держаться на военном потенциале, рассредоточенном в некоторых центрах. Археолог Ю. Кальмер [71] считал, что постоянное присутствие скандинавов до середины IX в. фиксируется только в Ладоге и Городище в истоке Волхова (Рюриковом). Во второй половине IX в., согласно [71], кроме летописного Рюрика, была еще одна волна пришельцев. Автор отмечает, что социальные структуры местного сообщества и пришельцев были разными и власть быстро перешла из категории «по ряду» в категорию «право сильного». «Наиболее вероятно, что в плане внутренней структуры последствия взятия власти были суровыми для русского общества. Новые правители привели с собой своих сторонников и вассалов, и население Руси увеличилось. Название же их политического владения сохранилось неизменным. … Новой чертой правящей ныне элиты были ее намерения распространить господство Руси на юг.»
В реальности процесс переселения был длительным и не мог быть сразу столь массовым, чтобы одномоментно охватить территории от Балтики до Волги. В противном случае в европейских хрониках остался бы след о столь массовой миграции скандинавов на восток, а его нет. Поэтому переселение шло постепенно (в течение именно 860-х и 870-х годов) и захват территорий тоже был длительный. Только после утверждения на новых местах новой властной структуры ситуация стабилизировалась (те самые 880-е и 890-е годы).
В итоге были сформированы распределенные центры. В северо-западном регионе это известные Ладога и Рюриково городище. В IX в. вокруг этих центров формируется инфраструктура контроля ответвлений торговых путей. Это городища Холопий Городок, Сергов Городок и селище Георгий. В Витебском Подвинье (междуречье Зап. Двины и Днепра) таким центром могло быть поселение Кордон в 40 км юго-восточнее Полоцка [117]. «Артефакты свидетельствуют о постоянном функционировании комплекса в пределах IX–X вв.» Условная линия «скандинаво\ варяжских» артефактов (оружия) к концу IX в. в Белоруссии такова [43]: Мядельский район – Шумилинский район. Зона северо-восточной Беларуси в полной мере отражает ранний этап связи Днепровского и Двинского бассейнов. На волоках между Оршанским Поднепровьем и Витебским Подвиньем зафиксировано шесть кладов IX в. В верхнем Поволжье (Волго-Клязьминское междуречье) такими центрами могли быть – Выжегша – Сарское городище – Угодичи и Тимерёвское поселение. На Окско-Донском водоразделе [167]: городище Супруты и Чертово Городище.
Cогласно [238], вторая волна пришельцев «была менее космополитична в культурном отношении, менее толерантна к местному населению и более военизирована». Можно согласиться с Ю. Кальмером [71], что новая элита имела намерения распространить свое господство на юг.
Подводя итог IX столетию, можно констатировать, что других Русий, кроме т.н. «донской» (но не славянской в этническом плане), не было. Был еще соционим «русь», который двигался с севера на юг с целью полного контроля международных торговых путей на территории Древней Руси.
О Руси в Х веке.
Это столетие характеризуется повышением влажности климата и уровня вод в реках и озерах. Данное явление стимулировало оживление торговых путей, связанных с движением по рекам. Но активизировались не только водные пути, но и сухопутные, в частности «степной коридор». Согласно археологу Д.Л. Талису [197] в начале Х в. от печенегов погибают поселения на западном побережье Крыма, на Тарханкутском полуострове, как и почти все поселения приморского и степного Крыма. Таким же действиям подверглись и жилища на Среднем Дону. Богатые земледельческие поселки не только степной, но и лесостепной зон Подонья подверглись опустошению. Население было частично уничтожено, частично бежало на север, в глухие уголки верховий Оскола, Северского Донца и Дона, защищенные от набегов номадов лесными массивами. Печенеги захватили все Подонье, Кубань и Причерноморье. Археолог С.А. Плетнева [154] отмечает, что печенеги разрушили многие города Таманского полуострова. Они стали фактически единственными хозяевами приднепровских, донецких и донских степей вплоть до Волги. К середине столетия они вместо венгров (мадьяр) займут всю степную зону от Волги до Дуная. «Приход печенегов в Причерноморье датируется промежутком между 897 и 904 гг.» [245].
Где-то на рубеже IX-X вв. соционим «русь», сохраняя движение на юг, вышел в верховья Днепра. Об этом сообщается в трактате императора Константина VII «Об управлении империей» [97], но датируется оно, как установлено [241;237;255], временем Льва VI Мудрого (на престоле 886-912 гг.). «В самых же верховьях реки Днепр обитают росы, через эту реку отплывающие, [когда] к ромеям отправляются;. … В это Меотидское море впадает много больших рек; к северной стороне от него – река Днепр, от которой росы продвигаются и в Черную Булгарию, и в Хазарию, и в Мордию; Пачинакия занимает всю землю [до] Росии, Боспора, Херсона, Сарата, Бурата и тридцати краев.» Следует отметить, что в рукописи стоит Surian (Сирия), а не Мордия (Mordian) – свидетельство вольности переводчиков, основанное только на том, что им «о походах русов в Сирию ничего не известно» (как будто им известны походы того времени русов в Мордию).
Где именно была локация этих росов в трактате не указывается, но Е.А. Мельникова высказала предположение, что это было Гнёздово (в 12 км от Смоленска). Ее аргументами были: а) раз росы обитают «в верховьях», позволительно считать, что оттуда они и стартуют; б) путь на восток лежит не по Днепру, там ясно сказано, что путь в «Вулгарию и Хазарию» лежит от Днепра. Локация Гнёздово идеально подходит.
Относительно Гнёздово. О данном поселении нет информации в хрониках того времени, сведения о его истории можно попытаться получить из археологических изысканий. Однако здесь нас поджидает неожиданность. Еще в начальных изысканиях (в 1949 г.) археолог Д.А. Авдусин считал, что поселение основано в конце VIII – начале IX вв. Однако уже в 2016 г. он [2] отказывается от этого, говоря, что датировка, «высказанная вполне предположительно, которую теперь следует отбросить.» Теперь он придерживается версии о «появления варягов на Верхнем Днепре» в Х веке. Однако сомнения относительно даты основания поселений вновь появились после интервью руководителя отряда Смоленской экспедиции на территории Гнёздовского археологического комплекса В.В. Новикова [75]. Согласно ему, «удалось найти стволы деревьев и, опираясь на естественно-научные методы, очень точно датировать спилы и построить дендрохронологическую шкалу. Очень важным для установления точных датировок оказались обнаруженные в спилах «события Мияке» – феномены земной истории планетарного характера, названные по имени открывшей их японской аспирантки. Нам известно, в какие годы на солнце происходили особенно яркие вспышки: их следы соотносятся с определенным цифровым показателем, говорящим о скачке углерода-14 в древесных кольцах. Причем солнечные вспышки действуют на всю планету, поэтому их следы обнаруживаются и на далеком севере, и в американских секвойях. Так что, если вы находите в спиле дерева этот цифровой показатель, одинаковый в любой точке земного шара, вы получаете точную дату. События Мияке два раза обнаружены в спилах в Гнёздове: речь идет о вспышках, произошедших в 774–775 и 993–994 годах. Таким образом, у нас сместились датировки: раньше считалось, что Гнёздово появилось на рубеже IX–X веков, а теперь – в конце VIII – начале IX века.» Эти датировки свидетельствуют о присутствии здесь какой-то части населения на рубеже VIII-IX вв.
Т. о., росы-русы, пришедшие в Гнёздово, вероятно, на рубеже IX-Х вв., пришли не на пустое, а на обжитое место.
Некоторые исследователи утверждают, что первыми «насельниками» Гнёздово были скандинавы (без уточнения этнической составляющей – датчане, норвежцы, готландцы, шведы?). Отметим лишь, что до 995 г. не существовало такого государства, как Швеция. Было около 28 общностей, возглавляемых ярлами, но не было единого государства. Поэтому применение термина шведы к началу и середине Х века неправомерно. Ряд исследователей считают, что погребений чисто скандинавского типа до середины Х в. со 100%-ой уверенностью выделить в Гнёздово невозможно, т.к. их легко спутать с погребениями балтийских славян. Например, норвежский археолог Анне Стальсберг определила, что четырёхугольные в сечении стержни лодочных заклёпок из Гнёздова ближе к балтийской и славянской традиции, нежели к скандинавской (с круглыми в сечении стержнями заклёпок). Согласно А.Н. Сахарову (Сахаров А.Н. Варяго-Русский вопрос в историографии), «норвежская исследовательница А. Стальсберг полагала, что славянки «могли использовать одну фибулу, поэтому в славянском окружении можно признать скандинавкой женщину, погребенную только с парой фибул». … А. Стальсберг, в 1998 г. обращая внимание на наличие в Гнёздове «удивительно большого числа парных погребений с ладьей» (8 -10 из 11) и указав, что «муж и жена обычно не умирают одновременно», не решилась принять за скандинавок спутниц умерших, т.к. убийство вдовы и ее похорон с мужем скандинавская история вроде бы не знает. … Еще в 1925 г. Е.Н. Клетнова заключила, что исходные корни погребального обряда гнёздовских курганов, «а также аналогии некоторым чертам ритуала, в частности – урнам, следует искать скорее в землях „балтийских славян, нежели в Скандинавии“». Исходя из того, что найденные в Гнёздово инструменты для ювелирных работ являются аналогией ювелирным инструментам из Старой Ладоги и острова Готланд, напрашивается логичный вывод, что среди населения раннего Гнёздово были мастера-готландцы. И не просто были, а жили здесь постоянно. Такую же т. зр. высказывал в 70-х годах ХХ в. археолог Д.А. Авдусин: «сопоставляя это с находимыми в Гнездове подкововидными фибулами, типичными для юго-восточной Прибалтики, и с некоторыми другими привезенными оттуда предметами, можно думать, что гнездовские варяги были скандинавами с балтской примесью, первое поколение которых жило где-то там, может быть на Готланде, бывшем местом смешения племен».
Т. о., раннее поселение Гнёздово (еще до рубежа IX-X вв.) уже было полиэтничным.
Археологи [1] считают, что Гнёздово не только контролировало, но и обслуживало волоки Днепровского участка. Этот центр был связан через Зап. Двину с Балтикой, по Днепру с Черным морем; по Угре с Окой и по ней с Волгой. Широтный торговый путь «Западная Двина – Днепр – Ока – Волга» (г. Булгар на Волге) был основной транспортной артерией в истории Гнездово. Есть все основания принять версию археологов, что центром верхнеднепровских росов было именно Гнёздово, которое в то время могло называться, по Т.Н. Джаксон, Свинеческ, Свинечск или Свиной мыс. На поселении и в погребениях были найдены византийские монеты: Феофила – 5шт; Василия I – 4шт; Василия I, Льва VI и Константина – 1шт; Льва VI – 7шт (вкл. 3 милиарисия); Льва VI и Александра I – 1шт. На первый взгляд, их наличие должно свидетельствовать о связях с Византией еще в IX в. Но, согласно [230], «фоллис чеканки Василия I, Константина и Льва (DOC Class 3a; 870–879 гг.) предположительно попал на памятник уже со второй, более поздней “волной” монет X в. … найденные монеты Феофила могли быть изъяты из обращения в Византии не позднее второй трети IX в. Следовательно, можно говорить о двух отдельных волнах поступления византийских фоллисов на поселение. Следует заметить, что нами исключается возможность использования монет Феофила для датировки комплексов Гнёздова: они могли тезаврироваться уже в X в. параллельно с монетами позднейших выпусков.»
Следовательно, в начале Х в. (как минимум, до его второй четверти) нет оснований говорить об интенсивной торговле между верхнеднепровскими росами-русами и греками. Очевидно, что информацию об этих росах была получена императором через «третьи руки».
Длительную дискуссию, до сих пор не имеющую общепринятого решения в историческом сообществе, вызвал отрывок из хроники Псевдо Симеона. Дискуссия касается отрывка о Рос-Дромитах и связи этого упоминания с походом Олега на Византию в 907 г., о подробностях которого известно исключительно из ПВЛ (и более ни в одной хронике). Сомнения в аутентичности данных о походе Олега первым выразил бельгийский византинист А. Грегуар. А. Макропулос [258] считает, что отрывок должен быть соотнесен с появлением в Византии русско-варяжской дружины киевского князя Владимира, призванной в 988 г. на помощь Василием II. В работе Апостолоса Карпозилоса [78] показано, что «практически один и тот же перечень повторен дважды и к тому же в совершенно различных исторических рамках – один раз для эпохи до Юлия Цезаря, второй раз – для событий 904 г. … Хронист пользовался им каждый раз, когда ему надо было затронуть географическую или топографическую тему. Этим и объясняется то обстоятельство, почему всякий раз, когда заходит речь о народе Рос, он употребляет стереотипно одни и те же фразы. … мы можем, видимо, сделать вывод, что «Рос» Псевдосимеона (707.3) не имеют никакого отношения к предполагаемому походу Олега или к Русско-варяжской дружине … ни одно из названий обоих перечней не содержит указаний на историческин события.»
Со своей стороны заметим, что упомянутый народ Рос (Rhos=Ῥῶς) эпохи Юлия Цезаря, это народ, проживавший на южном малоазийском побережье залива Исс в городах Ῥωσὸς (Rhosos, ныне Арсуз) и Ῥοσκόπους (Rhoscopus). С историей этого народа можно ознакомиться в [145].
Если внимательно смотреть на источник, с которого днепровские монахи переписывали события [217], то в нем нет никакого нападения росов в первом десятилетии Х в. Цитируем: “Книга 10. 86. После Феофила царствовал Михаил (III), сын его (841–867); с Феодорой 4 года (842–855), сам 10 лет, а с Василием один год (И503). 12. О русском нашествии, как они ушли, посрамленные (И511). 88. После Василия царствовал Лев (VI) Мудрый, сын его, 25 лет и 6 месяцев (886–910) (И526). 4. О бывших между болгарами и греками многих сечах (И529). [8]. Как сарацин из Триполи с большим войском много зла причинил христианам, а потом Селунь захватил (904 г.) (И534). 90. После Александра царствовал Константин (VII), племянник Александров, с семилетнего возраста: с матерью 7 лет, с Романом 27 лет, самодержцем – 15 лет, всего же 50 лет (912–959) (И542).[11]. О нашествии Руси. Они приплыли 14 индикта на тысяче кораблей и много зла принесли христианам. А потом, молитвами Святой Богородицы, одни утопли, а другие отошли вспять (И567)”. Выделены сроки правления императоров, т.к. ниже их хронист размещает события, произошедшие при этом императоре. Набег арабов в 904 г – при Льве VI, набег русский в 941 г – при Константине VII с Романом. Никаких походов росов-русов в 907 г!



