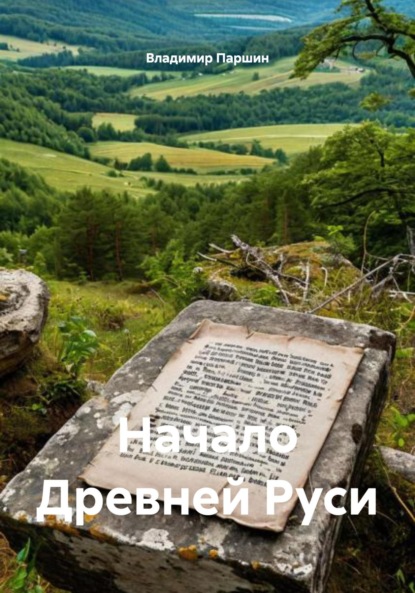
Полная версия:
Начало Древней Руси

Владимир Паршин
Начало Древней Руси
От автора.
Начиная разговор об истории Древней Руси, необходимо прежде всего определиться с некоторыми моментами.
Во-первых, с интересующим историческим периодом. В настоящее время известно, что о русах и Руси до IX в. нет достоверных (не вызывающих споров) известий. Любые гипотезы и предположения, не подтвержденные синхронными событиям письменными источниками и археологией, остаются только гипотезами и предположениями. Нас будет интересовать период IX-X вв.
Во-вторых, с фактом, что первичная Русь могла быть не славянской. Поэтому будем в соответствии с источниками использовать термины «рос, Росия» и «рус, Русь».
В-третьих, могли одновременно сосуществовать две (или более) Русии, не связанные между собой.
В-четвертых, источниками будут только документы, синхронные рассматриваемым событиям, или отстоящие от событий не более одного столетия. В более поздних источниках авторы или просто повторяют уже известное, или известные события и факты изменяют в угоду современным им обстоятельствам. В частности, русские летописи не могут в данном случае служить источник, т.к. самые ранние записи сделаны на рубеже XI-XII веков, все диалоги – вымысел летопсица (он не был очевидцем). Да и хронология этой летописной истории оставляет желать лучшего (ученые называют ее условной хронологией).
Важным учитываемым фактором будет гидро-климатическая ситуация в IX-X вв. Согласно данным [63;127;128;234;235], самым холодным и влажным за истекшие два тысячелетия был XV век., а «наиболее сухой и теплый период водного минимума падает на VIII и IX века.» Уровень Каспия, согласно [174], был на 4 м ниже современного (современный уровень Каспия составляет минус 28 м, а был минус 32 м). Исследования поселений на водоемах Псковской и Новгородской областей [127; 128] показало, что основания срубов домов под водой находятся на глубине около 3 м от современной поверхности воды. Такая же ситуация наблюдается на археологических объектах Смоленщины, на озерах Латвии и Эстонии. Это значит, что многие реки напоминали ручьи (некоторые совсем пересохли), а пороги (особенно Волховские, Мстинские, Днепровские и Двинские) были непроходимы. Таким же образом реагировали и подземные воды. Согласно [96], самый низкий уровень грунтовых вод был в VIII и IХ веках для грунтов Европейской части бывшего СССР. Пониженная увлажненность в указанный период привела к смене злаковых в северо-западном регионе древней Руси. Т.е. абсолютно точно, что в VIII и IХ веках уровень воды в реках и озерах на территории древней Руси был минимальным. С X в. начинается период повышения влажности, пик которого приходился на XIV-XV вв.
Если такие исходные предпосылки читающими принимаются, то можно двигаться дальше.
О Руси в IX веке.
Считается, что в IX столетии росы-русы упоминаются в Бертинских анналах, в нападении на Амастриду, в нападении на Константинополь в 860 г., в «Окружном послании» патриарха Константинопольского Фотия, в одной из дарственных грамот Альтайхскому монастырю короля Людовика II Немецкого, в «Баварском Географе» и в труде Ибн Хордадбеха.
В Бертинских анналах за 839 г. упоминаются послы народа Rhos (рос). Первый, кто признал в послах русов, был так нелюбимый советскими и российскими историками А-Л. Шлецер: «Люди, называемые в Германии шведами… в Константинополе называют себя русскими, – вот главное положение, выводимое нами из сего места» [233]. Именно он перевел chaganus как имя собственное Хакан (Hakan). Дискуссия об этнической составляющей этого народа продолжается до сих пор, а значит общепринятого в историческом сообществе решения нет. Все исследователи, полагают, что венгры (мадьяры), занявшие северное Причерноморье и междуречье Днепра и Дона, перекрыли возможность послам вернуться. Но при этом упускается тот факт, что венграми не был перекрыт Керченский пролив, сохранялось торговое сообщение между Константинополем и Таматархой (поставки «греческого огня»), а значит сохранялся вариант возвращения из Константинополя по Черному морю до Таманского полуострова, рукавов реки Кубань и далее до устья Дона. Тот факт, что послам не был предложен данный вариант, может свидетельствовать о том, что послы прибыли не с территории Древней Руси, о чем излагается в [144].
Такими же этнически неопределенными остаются нападавшие на Амастриду. Согласно [170]: «однозначно признать реальность нападения русов на Амастриду в 820-830-х годах не кажется возможным.» Общепринятого в историческом сообществе решения нет, поэтому в [144] предложен свой вариант.
Наиболее дискуссионным является нападение на Константинополь в 860 г. Дискуссионным является потому, что единственными документами, соответствующими IX веку, являются гомилии патриарха Фотия и его Окружное послание 867 г. Другие хроники: Патмосская рукопись (Patmos. 266) [3] и “Житие патриарха Игнатия” датируются началом Х в. Хроника Продолжателя Амартола (хроника Продолжателя Феофана [217] и хроника Симеона Логофета [215]) – середины Х в. Более поздние хроники – «Венецианская хроника» Иоанна Диакона [53], русские летописи и Брюссельский кодекс [17] – источники ХI-XII-XIII вв.
В период нападения никто не знал этнической составляющей нападавших. Об этом свидетельствуют гомилии патриарха Фотия. В рукописи G они названы “На нашествие варваров” (комментарии к [143]). Фразы – народ севера, гроза гиперборейская, скифский народ – не дают этнических характеристик. Согласно комментарию к [143], термин скифский народ «в византийской литературе приобрел характер довольно расплывчатого этногеографического термина и мог применяться как указание на любых варваров, причем не только из Северного Причерноморья [Phot. Hom. P. 89. Note 43]; любопытно отметить, что “варварским и скифским наречием” во времена Фотия могла быть названа даже латынь: именно так именует этот язык император Михаил III в послании к папе Николаю I, который был оскорблен таким высокомерием греков (PL. T. 119. Col. 930, 932).» Особенно выделяется в тексте гомилий фраза: «Народ незаметный, народ, не бравшийся в расчет, народ, причисляемый к рабам, безвестный – но получивший имя от похода на нас». Эта фраза ясно указывает, что «Ῥῶς=Рос» является не этнонимом, а экзонимом. И это совсем не Рус. Согласно [37;190], греческая буква «ω» всегда читается и озвучивается только как «ο»: ώρα [´ора], άνθρωπος [´анθропос], συναγωγή [синаγой´и], Ρώσος [р´осос], Ρωσία [рос´иа], ρωσικά [росик´а]. И слово Pως всегда читалось и звучало только как Рос. Некоторые авторы в стремлении связать Pως и Рус утверждали, что наличие диакритических знаков меняет произношение буквы «ω» на «у». Никакие диакритические знаки не меняют произношение. Они либо означают ударение, либо долгий звук. Для звука «у» в греческом алфавите был диграф «ου». Он обозначает всегда долгий гласный звук «у». Например: δοῦλος – дулос; Mουsa – Муса; λουλούδι; μου; Ουκρανία; Ῥοσκόπους.
В Окружном послании 867 г. [107] патриарх Фотий не случайно использует сочетание «τῶν λεγομένων Ῥῶς» -“так называемый народ Рос”. Особо отметим, что не «именуемый», что синонимично «называемый», а именно «так называемый». Отличие состоит в том, что согласно [203;16;208], «так называемый» может означать как носящий название, так и мнимый объект, т.е. содержит недоверие. Патриарх даже через 7 лет в точности не знал этнос нападавших. Сочетание «τῶν λεγομένων» можно встретить в переводах трактата «Тактика» Льва VI Мудрого [189], в частности, (Leo. Tact. III, 10): «κόμητες ήγουν οί τών λεγομένων βάνδων άρχοντες» – «комиты, иначе архонты так называемых банд» («комит» от слова κώμη, деревня, селение, имеющего тождественный смысл со словом βάνδα).
Т.е. Ῥῶς – это экзоним, который был дан греками, основываясь на пророчество Иезекииля 38-39. Об этом же указано и в комментариях [107]: «Возможно, что во время нашествия 860 г. в Константинополе вспоминали известное библейское пророчество (Иез 39, 1 сл.)».
Этот экзоним появится в заглавии гомилий «На нашествие росов» только при составлении сборника в поздних списках XVI-XVII вв. Византийцы библейское слово «Рош» неизменно понимали как название народа и, начиная с V в., прилагали его к различным «варварским» общностям (в частности, к гуннам), реально угрожавшим империи. В IX в. сознание византийцев немедленно связало нападавших с библейским «Рош». Именно патриарх Фотий первым произвел такое сближение, потому и использовал сочетание «так называемый». Текст пророчества (но с искажением) непосредственно был применен к русским в «Житие Василия Нового»: «Варварский народ придет сюда на нас свирепо, называемый Рос и Ог и Мог». Именно из этого отождествления Рош=Рос и пошло слово «Росия», но не рус и не Русь.
Отметим, что слово Русь (рус) связано с греческим словом Ῥοῦς. Согласно [3]: “Cod. Patmos. 266 свидетельствует об употреблении этнонима Ῥοῦς в его протографе, вышедшем из патриаршего скриптория в 877-886 гг., по свежим следам событий 860 г. … древнейший список Типика Великой церкви, Patmos. 266 начала X в., зафиксировал иную огласовку этого этнонима, Ῥοῦς, вполне соответствующую этнониму «роусь» в славянской (hecm), арабской (ar-Rūs) и латинской (Ruzzi/ Rusci/ Rusi, etc.) традициях, но в Византии распространившуюся лишь в X-XI веках”. Т. о., впервые русы появляются в византийской хронике в виде этникона Ῥοῦς, форма которого не происходит от формы Ῥῶς. Чтение греческого Ῥοῦς позволяет получить ту самую третью форму – роус, которая фигурирует в Русской Правде в XI веке (Правда Русская. Под ред. акад. Б.Д. Грекова. Т.1. Тексты. М. Л. Изд. АН СССР, 1940). Но греки все равно и дальше будут именовать русов росами (как глубоко проникло в сознание пророчество).
Где же была локация этих росов-русов?
Изначальная этническая неопределенность позволила русским, советским и российским историкам видеть в нападавших: кто-то – ладожан и новгородцев с варягами; кто-то – представителей Среднего Поднепровья; кто-то представителей низовий Днепра; кто-то – жителей Тавриды; кто-то донских и приазовских аборигенов.
Рассмотрим эти версии, но для начала напомним об исходном пункте относительно гидро-климатической ситуации в IX в.
«Северная» версия. Прежде всего надо отметить, что из Ладоги вытекает только одна река – Нева, по которой на юг не добраться. Значит надо подниматься против течения по Волхову в оз. Ильмень. Но и здесь все реки только впадающие в озеро. Значит вновь против течения Ловати к Касплянским волокам. Однако у археологов есть серьезные возражения относительно функционирования этих волоков в данное время. В частности, археолог В.С. Нефедов [135] писал: «Что же касается традиционно фигурирующих в историографии путей по Каспле (от оз. Касплянское вниз по течению реки) и по Днепру ниже впадения в него р. Катынка, то их стабильное функционирование в конце I тыс. вызывает серьезные археологические сомнения по причине практически полного отсутствия на них памятников этого времени.» Относительно волока к Днепру в [60] отмечено следующее: «с волоками к Днепру – полный провал. Ну, не подходит нигде Каспля к Днепру хотя бы так же близко, как Ловать к Усвячи. … Да, не зря Нефёдов про зиму сноску сделал!» Поэтому недопустимо применять текущие условия для оценки (реконструкции) ситуации более 1000 лет назад и на основе современных карт. Значит допускаем, что суда переносили или перекатывали. Но ведь далее на Днепре тоже «не сахар» – пороги (перед Оршей) и на среднем Днепре – Днепровские пороги, которые в период минимального уровня вод были непроходимы. Т.е. путь должен был сразу проходить максимально по суше.
Но м. б. там (на северо-западе) было такое множество народа, что «переносили» свои суда через любые волоки и пороги? Основными центрами в то время могли быть Ладога и Городище (в XIX в. получившее название Рюриково).
Археология говорит, что только в течение IX столетия Ладога пережила два уничтожающих пожара – около 840 и около 865 годов. Пожар 840-го года, видимо, был связан с набегом, после которого словене и пр. общности стали данниками каких-то «варягов из-за моря». Сам термин «варяг» появится только в XI веке и до сих пор вызывает споры относительно их этноса. По «северной» версии получается – только отстроились после уничтожающего пожара 840 г. и пошли в набег? Сомнительно. Согласно [112], «Особых оснований для интерпретации культурной общности, сложившейся в Поволховье к 1й трети IX в. (IV ярус), как «руси», полиэтничной по характеру, но с лидирующей ролью скандинавов нет. … Ладога выступила связующим звеном между морским пространством Балтики и континентальными просторами Восточной Европы. Поэтому борьба за обладание этим пунктом становилась неизбежной.» Согласно [113], «говорить о реальной "полиэтничности" поселка с несколькими десятками или одной-двумя сотнями постоянных жителей вряд ли возможно, а именно такой видится Ладога.»
Возникает закономерный вопрос: «Как понимать сообщение русских летописей – "И от тех Варягъ, находникъ техъ, прозвашася Русь, и от тех словет Руская земля; и суть новгородстии людие до днешняго дни от рода варяжьска"?»
Относительно датировки самих летописей уже было сказано ранее, т.е. через 200 лет после событий. Т. о., летописец (цы) не были очевидцами и современниками описываемых событий. Во-вторых, в IX в. еще не было никакого Новгорода (как и Киева). В истоке Волхова было Городище (Рюриково). В-третьих, кроме них – летописей, больше нигде в хрониках того (IX-X вв.) времени нет сообщений о призвании в Приладожье-Приильменье Рюрика. В-четвертых, сравнение разных списков летописей показывает разницу в текстах об одних и тех же событиях. В частности, о тех, кто участвовал в призвании князя. Повесть Временных Лет (ПВЛ) сообщает только, что за князем отправились за море «к варягам, к руси»; Новгородская Первая Летопись (НПЛ) не отождествляет варягов с русью (как ПВЛ), но перечисляет участников призвания князя: «словене, кривичи, меря, чудь»; в Лаврентьевском, Ипатьевском, Троицком, Академическом и Радзивилловском списках участники призвания князя «русь, чудь, словени и кривичи и вси». Получается на 5 призывавших пришло 3 князя. О доверии (точнее о недоверии) к летописям писали русские историки. Например, историк Д.И. Иловайский (1832-1920 гг.) [64] писал: «Наша летопись, как и все другие, начинается легендами. … Ни одно произведение русской словесности, несомненно принадлежащее дотатарской эпохе (до XIII в.), "не знает ни о варяге Рюрике, ни вообще о призвании варяго-руссов".» Историк М.Д. Присёлков (1881-1941 гг.) [165] писал: «повесть временных лет искусственный и малонадежный исторический источник, опираясь на который, нельзя воссоздать историю Древней Руси». Историк Я.С. Лурье (1921 – 1996 гг.) [121] также отмечал, что «для истории IX–X вв. “Повесть временных лет” является недостаточно надежным источником». При этом надо особо отметить, что летописные новгородцы не считали себя Русью даже в XII и XIII вв. Согласно НПЛ старшего извода: «Въ лѣто 6643 [1135]. Въ то же лѣто, на зиму, иде въ Русь архепископъ Нифонтъ съ лучьшими мужи … Въ лѣто 6650 [1142]. Епископе и купьце и слы новгородьскыя не пущаху из Руси. … Въ лѣто 6654 [1146]. Прѣставися въ Руси Всѣволодъ. … Въ лѣто 6657 [1149]. Иде архепископъ новъгородьскыи Нифонтъ въ Русь, позванъ Изяславомь и Климомь митрополитомь … Въ лѣто 6687 [1179]. … Томь же лѣтѣ иде Романъ из Новагорода Смольньску. Тъгда же новгородьци послашася по брата его по Мьстислава въ Русь. Въ лѣто 6688 [1180]. … И послаша новгородьци къ Святославу въ Русь по сынъ, и приведоша Володимира въ Новъгородъ, и посадиша и на столѣ въ 17 августа. … Въ лѣто 6719 [1211]. Приде Дмитръ Якуниць из Руси, и съступися Твьрдиславъ посадничьства по своеи воли старѣишю себе: тъгда же даша посадничьство Дъмитру Якуничю.»
Относительно термина «русь» в этой фразе. Он появляется в недатированной части ПВЛ сначала как этноним. Затем его смысловое содержание сменяется на социальный, т.е. переходит из этнонима в соционим. Поэтому некоторые исследователи считают, что эта фраза имеет не этническое, а социальное содержание. Термин «русь» не является изначальным названием для летописных «новгородцев». Он стал – на время – их социальным статусом; умер летописный Рюрик (в летописном 879 г.), исчезли летописные Игорь и Олег и сразу перестали словене-«новгородцы» прозываться Русью. Новгородцы до XIV века подразумевали под словом «русь» население сначала Киевской, а затем Суздальской земли. Поскольку «северная русь» представляла соционим, то цели этого соционима рассмотрим после завершения поиска локации первичной этнической Руси.
Вернемся к вероятным участникам похода на Константинополь. Европейские источники сообщают от 200 до 10 000 только судов у нападавших. Отбросим завышенные цифры и возьмем 200 по 40 воинов. Итого 8 000 бойцов. И ведь каждый должен быть вооружен. Стоимость вооружения в то время составляла в серебре: меч – 125 г (42 дирхема), копье – 50 г (17 дирхем), нож -3 г (1 дирхем). Если говорить о новгородских гривнах, то до XII в. северная "гривна", как мера веса снребра, составляла 204,75 г. На одного бойца – 178 г серебра (~60 дирхем), а на 8 000 – баснословные затраты для поселения не более 200 жителей. Увы, это даже не спускаясь по Днепровским порогам и через мадьяр.
Таким же образом отпадает и возможность нападения из Среднего Поднепровья – Днепровские порогии и плюс мадьяры от верхнего порога до моря. Некоторые авторы (сторонники днепровской версии) считают, что пороги можно было обойти [5] по рекам. «Выходя из Днепра, русы использовали русла двух его притоков. Верхний, выше трудоемких волоков вдоль порогов на большой излучине реки (от нынешних Днепропетровска до Запорожья): поднимались по р. Самаре, по ее левому притоку р. Волчьей и далее уже по её левым притокам рекам Гайчур, Мокрые Ялы (или ее правому притоку Кашлагач) или Сухие Ялы до их истоков, все в пределах современных Запорожской и Донецкой областей. Эти в прошлом глубоководные степные речушки-«канавы» берут начало из родников на северном склоне плоской Приазовской возвышенности. После элементарного волока плоскодонных долбленок на 2-4 км на юг русы спускали свои корабли в сразу глубоководные истоки рек Берда, Кальчик или Кальмиус и по ним попадали непосредственно в Азовское море, по первой названной – возле современного города Бердянска, по остальным – возле современного города Мариуполя. Обилие судов с суммарной многочисленностью их экипажей давали русам возможность противостоять нападениям». И снова авторы забывают гидро-климатическую ситуацию IX века, когда «степные речушки-"канавы"» практически исчезают, и более подходит Х-му и последующим столетиям, когда наблюдался процесс увлажнения климата.
Но может быть здесь в среднем Поднепровье было множество народа, которому все ни по чем. Итоги археологических изысканий киевских предместий приведены в [73;74;89;91;90;254]. Согласно этим изысканиям, до конца IX столетия не приходится говорить о каком-либо значимом или консолидирующем центре. Согласно [90]: "наблюдаем три небольших неукреплённых поселения культуры Луки-Райковецкой на соседних выступах Киевского плато: Старокиевском, Детинке и Кудрявце, окружённые рвами позднее (в Х в.), а также городище на Замковой горе, называвшееся летописью в контексте событий Х в. именно «градъ Кыевъ»". Только в конце IX века (первый спил датируется по дендрохронологии 887 г.) появляется ремесленный и торговый посад – Подол. Четкое чередование темных слоев (результат жизнедеятельности человека) и светлых слоев (песок) на разрезе свидетельствует о том, что в существовании Подола были неоднократные перерывы в заселении из-за разливов Днепра в периоды весеннего половодья. Относительно экономической части этих предместий конца IX – начала Х вв. мнение киевского археолога М.И. Сагайдак [177]: «даже в конце IX в, практически всю территорию Киева и его округи занимали хвойные и смешанные леса, а значит, о каком-либо развитом земледелии здесь можно говорить исключительно гипотетически». Согласно [242], до конца IX в. в Среднем Поднепровье «наблюдается почти полный экономический вакуум». А ведь бойцам надо было что-то взять с собой из провизии, а взять-то нечего. Регион-то экономически не развит!
И это без учета влияния мадьяр до низовий Днепра. А ведь венгерские отметки того периода фиксируются от побережья Черного моря до верховий Днепровских порогов и выше: на правом берегу Днепра – в Субботцах (Кропивницкий р-н, Кировоградской обл.), Коробчино (Новоукраинский р-н, Кировоградской обл.) и Волосское (Днепровский р-н Днепропетровской обл.), а также на левом берегу – Манвеловка (Синельниковский р-н, Днепропетровской обл.), у села Твердохлебы (Полтавской обл.). Самое северное древневенгерское захоронение в Поднепровье было обнаружено у с. Бабичи (Каневский р-н, Черкасской обл.). Европейские и арабские хроники свидетельствуют, что мадьяры проводили регулярные набеги на славян и продавали своих пленников византийским работорговцам в черноморском порту Керчь в обмен на парчу, шерсть и другие товары. По приблизительным оценкам польского историка Д. Колоджейчика, номинанта премии «За лучшее исследование в области истории, этнографии и искусствоведения Крыма», в год в Крым в среднем попадали около 10 000 славянских пленников.
Отдельно отметим, что археология не находит следов христианства в Среднем Поднепровье в IX в. [149, с. 219-220], а ведь патриарх Фотий говорил о крещении нападавшего народа. Следов присутствия скандинавов в киевских предместьях в IХ в. археологами также не обнаружено.
Т. о., версия о нападавших из Среднего Поднепровья не имеет под собой основы.
Относительно версии о локации нападавших в низовьях Днепра. Низовья Днепра начинаются от Запорожья, где Днепр делится на два рукава, образуя остров Хортица, и заканчиваются устьем. Ранее река ниже о. Хортица текла многими руслами по болотистой равнине, которую весной и во время летних паводков заливала вода. Это так называемые плавни, покрытые лиственным лесом, камышом, рогозом, заливными лугами, озёрами, болотами. Крупнейшие плавни простирались между Днепром и его левым притоком Конкой – так называемый Великий Луг (ширина – до 20 км, длина – до 60 км), отделённый узкой полосой плавней вблизи города Никополя от второго широкого комплекса – Базавлуцких плавней. Течение преимущественно быстрое, но встречаются тихие плесы и омуты с обратным течением. Глубины различные: есть перекаты, где глубина едва достигает 0,5 м, и есть ямы до 20-30 м. Но, это современное описание. А теперь представьте себе то же пространство с понижением уровня вод на 3-4 м. Даже долина реки изменилась после сооружения второй крупной плотины на Днепре и большого Каховского водохранилища. Сейчас почти вся территория Великого Луга, за исключением нескольких сотен гектаров в юго-восточной части острова Хортица и на левом берегу, залита водами Каховского водохранилища.
Прадельта нижнего Днепра со временем переместилась севернее в широтном направлении и заняла свое современное положение. А на месте старой дельты оставались несколько постепенно отмирающих рукавов. Один из таких рукавов (с названием Герр – γέρρον, γέρρα, γέρρος, по-древнегречески означает “плетенка”, “переплетение”, “сплетение”) отделял западную часть Кинбурнского полуострова с Кинбурнской и Тендровской косами от основной материковой части. Это подтверждено исследованиями [129]. Он отделялся от нижнего течения Днепра примерно в месте впадения р. Ингулец и впадал в Каркинитский залив в районе города Садовска. В то время сток рукава Герр был более существенным, судя по вытянутой с севера на юг полосе подов и многочисленных озер. До сих пор в Каланчакский лиман Каркинитского залива впадает рудимент днепровского рукава Герр – р. Каланчак. Подтверждением существования этого левого рукава Днепра, впадающего в Каркинитский залив, является факт обнаружения в нем и на прилегающем шельфе Черного моря палео-русла и образованного им каньона [65]. В свое время археолог В.В. Латышев (1855–1921 гг.) высказал предположение, что именно западная часть материка, отрезанная рукавом Герр, отождествлялась с островом Борисфен (Борисфенида). Но тогда ещё не было необходимых палеогеографических и археологических данных. И это предположение осталась без должного внимания. Теперь же имеющиеся данные полностью подтверждают давнее предположение В.В. Латышева. О плохом знании дельты Днепра того времени и немного позднее свидетельствует комментарий [129]: «О незнании реальности говорит и отсутствие на ранних картах обширной дельты р. Днепр, которую невозможно было бы не заметить, если бы через ее рукава осуществлялись торговые перевозки. Очевидно, отсутствие торгового судоходства в рукавах Днепра, его плавнях и болотах и было причиной отсутствия этих водных объектов на картах. Но на карте XVI в. уже обозначена дельта р. Днепр (р. Непер), изгиб этой реки (“лука”) и выделено междуречье р. Южный Буг и нижнего течения р. Днепр в виде треугольника, обозначенного portobono – “хорошая гавань”».



