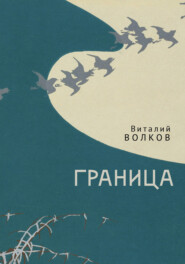
Полная версия:
Граница
Итак, он подарил мне книжку года четыре назад. Или пять. Но не десять. Помню, тогда было жаркое московское лето. За городом горели леса, тлели торфяники, и гарь накрыла столицу. Пес моего тестя по кличке Бонус, ища спасение, залезал по уши в речку Тихую, что при большой Ладоге, хотя в обычной жизни Бонус боится воды так же, как я боюсь плохой поэзии… Когда это было? Моя память пока еще колет, но не пилит полено времени. Дробное питание, питание днями, месяцами – еще не для меня. Да, прошли годы с того дня, когда пахло гарью, мы с ним встретились и он подарил книжечку своих стихов. Допустим – пять лет прошли, и вот мы с моим старым другом сейчас сидим в московском дворике, что располагается в глубине кирпичного дома, расправившего широкую грудь вдоль Бережковской набережной. Гарью не пахнет. Скоро сентябрь, но листьев еще не жгут. Слабый ветерок доносит запах близкой речной воды. На скамеечке, что возле детской площадки, стоит баклашка с элем. Она разделила и объединила нас. Есть в нас что-то лондонское. В Лондоне летняя пятница после работы – это сотни ульев-пабов, где для мальчиков в галстуках не хватает мест, и они рассаживаются с бокалами и кружками прямо на тротуаре. Мы же не сидим на тротуаре лондонской улицы, под нами скамья, а над нами властвует крепыш-клен. Он не российской породы, а канадец, с длиннющими ветвями. Он ими развел в удивлении и замер, словно великан, впервые увидевший муравья. Великана мой собеседник, мой друг обидел. Он его назвал сорняком. «Это сорняк. Этому двору нужны тополя». Моего друга зовут Андрей. Он умеет отличать дуб от ясеня, рябину от вишни, и знает, как выглядит израильская трава заатар. Я не спорю, пусть будут тополя. Хотя канадский клен моему сердцу не помеха. Мне помеха – канадские бронетранспортеры на Донбассе, и сидящие в них бандеровцы. С бандеровцами воевал мой дед. Бандеровцы казнили всех его сестер и их мать, казнили и бросили в колодец, в местечке под Харьковом. Мой дед закончил ту, прежнюю большую войну на Дальнем Востоке, и вернулся в местечко с автоматом. Ведь те бандеровцы были не инопланетянами, они были теми, кто до войны жил по соседству. Дед вернулся с автоматом, но их, соседей, уже не было – они потом обнаружились в Канаде… Дед Андрея тоже воевал на той войне. От него остался морской бинокль. Бинокль Андрей подарил мне. То был дорогой подарок – армейский бинокль деда! Я запомнил тот день. Тоже стояло лето, и тоже август. В Китае бегали бегуны, прыгали прыгуньи, и в тихий пруд прыгала лягушка, возмутив тишину всплеском воды. Порхали цикады, цвела и цвела поздняя вишня… Ветры неспешно и неумолимо сдвигали воздушные массы с запада на восток. Гордые бородачи, грузинские воины, вооруженные по последнему слову учителей военного мастерства, едва не проглотили маленький горный городок вместе с его жителями. Их обглоданные скелеты украсили бы четки кривых улиц, если бы не пыльные и кривенькие русские солдатики. Они рванули через перевал и успели спасти городок. Кончалось лето. Вводились санкции. В европейской стране, где я в те годы жил и работал, вошло в моду называть русских агрессорами. Слова о том, что они – спасители и герои, воспринимались как крамола. Воздух становился душноват, хотя в нем ощутимо засквозило зимой. Я тогда прилетел в Москву, чтобы вернуть лето и вкус справедливости. Пять дней хватило кривеньким солдатам, чтобы спасти маленький город, крохотную страну; хватило, чтобы обратить армию гордых бородачей в бегство и вынудить Евpony умолять русских не вступать в их бородатую столицу, в Тбилиси. Да, я тогда летел над Москвой, оглядывая просторы с видом победителя. Ее леса, ее поля. Потом я шел по городу своего детства шагом победителя. Мне не интересны стали бегуны и прыгуньи, рвущие мышцу за китайское золото. На сердце расцвела поздняя вишня. Вишню в душе я нес в себе на ту встречу с Андреем. А он нес мне дедовский бинокль. «Возьми. Я больше не праздную день Победы», – огорошил он меня. В висках застучали злые барабанщики. «То есть как? Почему? Мы же с тобой всегда выпивали за Победу, как за главный праздник»? – возопило во мне срубленное, сломленное деревце. Моя вишня… Как же так? Мы же всегда поднимали тост за наших дедов?
– Да, это была форма, а содержания не осталось. Осталось победобесие+. Мне больно за Грузию. А мы опять превратились в империю… Я не хочу иметь ничего общего с этим нашим государством. Я так любил Тбилиси…
Мы тогда не поссорились. И не разошлись. Потому что он подарил мне дедовский бинокль. Словно передал мне заботу о дне Победы. А себе оставил заботу о свободе от «империи». Тем более, что я снова уехал, а он остался. Его красивую седую голову можно было увидеть среди митингующих на Болотной площади. Я по телефону спрашивал, не противно ли ему шагать рядом с ненавистными ему коммунистами и столь же ненавистными националистами, оказавшись где-то между красным и черно-бело-золотым флагами? Он признавался, что противно, но он не с ними, а с молодежью, с замечательной нашей молодежью, со школьниками и студентами, с их прекрасной дамой, их гражданской позицией. Я видел перед собой его одухотворенное красивое лицо, и с печалью думал о том, что настанет день, когда бинокль поставит нас по разные стороны баррикады… Печаль моя была спокойна и светла, как мысль о смерти самурая, глядящего в ровное зеркало озера перед закатом солнца (позже, в конце – настанет день разрешения). Я поднял голову и поднес бинокль к глазам. В высоте парили птицы. Хотелось бы превратиться в птицу с широкими крыльями и угольками зрачков, и не опускать на землю. Век собрался выстрелить в самый зрачок цейсовского оптического прибора.
Итак, прошли годы. Четырнадцать лет.
«А это кто? – Длинные волосы
И говорит вполголоса:
– Предатели!
– Погибла Россия!
Должно быть, писатель —
Вития… +»[1]
Четырнадцать лет, и мы вдвоем, во дворике дома, что отделяет нас от большой реки. От Москвы-реки. От Москва-реки. От Маскварики. Я – снова москвич. Андрей – он приехал издалека. Приехал то ли продать, то ли сдать квартиру. Он сам точно не помнит. Он забыл. Этим занимается его жена, женщина высокого роста. Ее пальцы пахнут скипидаром. Она – художница. И Андрей – художник. Стишки он пишет по случаю. Мы давно не виделись, лицо в лицо. У меня через лоб пролегла морщина. Она расчертила летное поле мысли на две половины, разделенные рвом. Ров появился в одночасье, за ночь. В ту ночь, когда русская армия ушла из под Киева, и по Европе пронесся ураган по имени Буча+. Я твердо знал, что Европа лжет. И тем глубже пробуравила ложь ров между ней и мной. Андрей тоже изменился. В стране, куда он уехал, очень много солнца. И радужные некогда ясных голубых глаз выцвели, что ли? Это тем более бросилось в глаза оттого, что кожа стала смуглой от загара, а голубое на загорелом лице должно было выглядеть особенно голубым. Ежик низкорослых волос более не скрывал мыслепровода, размещенного на удивительно ровной макушке. Если бы селекционер задумал создать идеальную грушу, он взял бы такую голову за образец. И только грудная клетка была, как и прежде, широка и крепка, она выдавала прошлое упрямого боксера.
Итак, между нами – баклашка с темным элем. Она позволила нам быть снова вместе, не смыкая, как прежде, плеч. На этикетке изображен шмель. Шмель огромен и пушист, он походит на толстого грузина, выпрыгнувшего из бани.
Мы сидим во дворике дома, в котором никогда не жил Мандельштам (в юности я, по ошибке, называл его Мандельштам-пом). Ни Ахматова, ни даже Юна Мориц здесь тоже не жили. Мы сидим под канадским кленом, на скамейке у детской площадки, где нет детей. А на площадке – турники и брусья под разный рост и возраст. Тут свежий тартан цвета спелого апельсина. Да, в этом дворе не читают Мандельштама. На нас с опаской глядят женщины в глухих черных платках. Женщины носят длинные платья и ходят через двор плоско и мелко. Они обуты в шлепанцы. Русские женщины так ходить не умеют. Даже в валенках. Эти женщины выросли не в Советском Союзе. Они не ходят, они плывут по земле, как листы, донесенные ветром до дальних вод. Они плывут мимо нас и наблюдают нас, неведомых им птиц. Глаза их были черны. За женщинами следуют мужчины. Это хищники, мясоеды. Они недобрыми зрачками измеряют нашу чуждость им и степень угрозы, которая могла бы исходить от нас. Угроза для детской площадки от двух мужичков, делящих друг с другом баклашку пива.
Сегодня ночью, не солгу,По пояс в тающем снегуЯ шел с чужого полустанка.Гляжу – изба, вошел в сенцы,Чай с солью пили чернецы,И с ними балует цыганка…У изголовья вновь и вновьЦыганка вскидывает бровь,И разговор ее был жалок:Она сидела до зариИ говорила: – ПодариХоть шаль, хоть что, хоть полушалок…Того, что было, не вернешь.Дубовый стол, в солонке ножИ вместо хлеба – еж брюхатый;Хотели петь – и не смогли,Хотели встать – дугой пошлиЧерез окно на двор горбатый.И вот – проходит полчаса,И гарнцы черного овсаЖуют, похрустывая, кони;Скрипят ворота на заре,И запрягают на дворе;Теплеют медленно ладони.Холщовый сумрак поредел.С водою разведенный мел,Хоть даром, скука разливает,И сквозь прозрачное рядноМолочный день глядит в окноИ золотушный грач мелькает+.Да, в этом дворе уже не читают Мандельштама. Зато здесь блюдут чистоту на детской площадке. Зато с этого двора еще выйдут чемпионы. Как бы то ни было, у бородачей-мясоедов мы не вызвали слюноотделения. К тому же мне их вид – не в диковину, я долго прожил в Европе, там таких – через край. Они там пьют пиво так же, как мы здесь. А Андрей – он вообще никого и ничего не боялся, – ни боксеров, ни диких бродячих собак, ни страшных болезней, ни сумы, ни тюрьмы. Он не боялся. Он был легкомыслен, и потому статная женщина прикрывала ему макушку крупной ладонью, пахнущей мастикой. Он боялся, кажется, одного – стать рабом государства, которому веры нет. Нет веры. Нет веры ни художникам-передвижникам, ни музыкантам, пишущим «За царя», ни писателям – соцреалистам, ни поэтам классического слога. Содержание – рабство. Форма – это и есть жизнь. Содержание не может быть новым. Новой может быть только форма. Новая форма – это и есть свобода. Это и есть творчество. А выше творчества для человека ничего нет. Человек создан для творчества. Во имя творчества… А наше государство считало и считает иначе. «Ваше государство»… О государстве мы спорили когда-то. Теперь иное. Теперь мы остерегаемся высечь искру у бочонка с порохом. Теперь мы говорим только о здоровье, о пиве и о формализме в культуре.
– Ты знаешь, со мной случилась большая неловкость, – поделился со мной Андрей, когда емкая бутыль часов, измеряющих время в эле, опустела наполовину, и исчерпался наш разговор о том, сколько формализма стерпит искусство, а сколько – культура. Мозг и печень терпят ведь разное количество пива!
Я, как раз произведя мощный вдох свежего эля, расслабился и пошутил, не написал ли мой друг на новой земле заново «Черный квадрат»… Мне вспомнился опыт Габричевского. Тот сказал однажды, что он всегда считал искусство окном в прекрасное, а когда увидел «Черный квадрат», то понял – это окно закрылось. Андрей не любил Габричевского, как кот не терпит пса, вторгшегося на его территорию.
Я ожидал возражения от моего друга. Я полагал, что он скажет о зернах культуры, в которых мы так по-разному и так близко с ним зрели, и выросли по разные стороны тепличного стекла. Он снаружи, а я – внутри, в парнике. Я ожидал, что он заговорит о форме, как о важнейшем критерии современного искусства, потому что содержание, которое так или иначе призвано отражать реальность, превратилось в банальность, в ложь. И одна только новая форма способна вытянуть искусство в новую жизнь, потому что форма не ограничена ничем, она – это поиск, а поиск – это свобода. А свобода – и есть суть искусства и более широко, творчества. И так далее… Но я услышал другое. Он пропустил шутку, подколку, мимо ушей.
– Ты знаешь, со мной приключилась большая неловкость. Помнишь, я дарил тебе сборник стишков? Там в конце было стихотворение, которое мне самому не очень нравилось. Я еще думал, думал – как оно у меня выскочило, как белый гриб среди лисичек? Слишком оно рифмованное, а плотная рифма – серость. Что ж, смирился с ним, а вчера жена пришла домой со словами, что у нее для меня плохая весть. Так и сказала. Плохая весть. А она редко такое скажет. Она человек позитивный, а тут – прямо черный лебедь… А я все жду и жду этого лебедя, потому что до семидесяти дожил, а уже лет тридцать, как счастлив. Ни язвы, ни рака, ни даже цирроза печени – а сколько выпил… Тьфу-тьфу. Всё вокруг в тартарары, а я только худею и счастливею! И вот жена с плохой вестью. «Знаешь, что я сегодня обнаружила? Последнее стихотворение в твоем сборнике – оно не твое. Это Мандельштама… Крутые сосны смотрят ввысь… Как теперь изымать тираж? Как же тебя угораздило, горе мое! Ты так-то не помнишь, что накануне было, ты же своих-то стихов не вспомнишь под пыткой, а тут – Мандельштама присвоил! Его же запомнить нужно было! Это же не Пушкин, не Лермонтов, и не Агния Барто, это же Мандельштам!
Услышав такой анекдот, рассказанный невеселым голосом, и зная, как права жена моего друга, я все-таки хохочу долго и искренне. Устав смеяться, я интересуюсь, что за стих попал под плагиат. Андрей чешет в затылке, заново припоминая за своим чужое. Но припоминает, и читает с трудом, словно рожает, вытаскивает клещами из мозга заново.
– Холодная весна. Голодный старый КрымКак был при Врангеле – такой же виноватыйОвчарки на дворе, – на рубищах заплаты,Такой же злой кусающийся дым…[2]Он читает скверно, путается, цепляясь звуками собственного голоса за окончания слов. Я стесняюсь такого чтения и задираю затылок, поднимаю взгляд в небо. Оно темнеет, тяжелея в глубине сизой силой. Так атлет готовится поднять неимоверный вес, и копит мощь, согнувшись над штангой. Что ни ночь, то неимоверный вес… Эта ночь будет холодной и ясной. Московская августовская ночь. Она будет ясной. Но до нее еще далеко. Она еще не родилась, хотя фонари уже знают суть времени. Они уже светят. В свете фонарей я вижу на ветке клена сороку. Нет, то не сорока, то – голубь. Он бел, как альбинос. Он похож на букву древнего алфавита, вытканную на шелке театрального занавеса. Голубь слушает стихи, склонив крохотную голову и едва раскачиваясь в такт неровной строфы. Вот до него доносятся последние слова, и птица срывается в полет. Крылья с треском прорывают незримую ткань.
– Природа не узнает своего лицаА тени странные Украины, Кубани…На войлочной земле голодные крестьянеКалитку стерегут от русского гонца…[3]Я провожаю птицу взглядом, и по ее неспешному лету, устремленному в дальние дворы, через маскварику, догадываюсь, что летит не голубь, а горлица. Наконец, глаза мои, не вооруженные биноклем, теряют след свинцового карандаша, проведенного по холсту неба.
– Ворон дослушал стихотворение до конца. Внимательные здесь вороны, – отмечает Андрей. Оказывается, он тоже разглядел птицу. Но почему же ворон? Как можно в белой горлице разглядеть черного ворона?
– Ты представляешь, что разница между мной и Мандельштамом только в нескольких словах, – тем временем продолжает рассказ Андрей. Он удивлен и тому, что принял чужой стих за свой, и тому, что в чужой стих поместил свои слова, и они ему по душе, они и только они связывают творца с творением. А еще в нем теплится надежда, что читатели его сборника до конца не дочитают. Все-таки последний стих в книге… Я не могу его утешить. Обычно я открываю поэтические сборники с середины, а то и с конца.
Андрея отвлекает звонок телефона. Звучит мелодия, знакомая с детства. Да, мы смотрели с ним одни фильмы, мы с ним смеялись над одними анекдотами… Идет между Америкой и СССР ядерная война. Рейган звонит Брежневу и говорит: Леонид Ильич, мне доложили, что у нас еще одна ядерная боеголовка осталась, а разведка точно докладывает – у вас все закончились. Сдавайтесь». Брежнев прикрывает ладонью трубку, звонит в генштаб, там генералы звонят полковникам, те – майорам. Наконец, Брежневу перезванивает министр обороны и докладывает: «Леонид Ильич, в Урюпинске на складе у прапорщика Иванова нашлись три боеголовки». Брежнев тогда отвечает Рейгану: «Рональд, это вы сдавайтесь. Пока в стране бардак, мы непобедимы».
Мы выросли в одной стране, которой больше нет. Так почему мы оба, ценя справедливость выше закона, а красоту принимая в качестве формы правды – почему мы стали видеть ложь и тьму столь по-разному? То, что для меня – белое, он принимает за черное. А если наоборот?
– Да, жена, все в порядке, – тем временем сообщает он телефонной собеседнице, – Да, гуляем по Москве. Нет, трезвые, как татарские банщики. Нет. Да. Нет же. Да. Как раз развлек историей про Мандельштама. Нет, он не дочитал. Не забыл, как можно… Продается? Жаль. То есть хорошо. Да, скоро буду. Нет, я все же не ребенок. Ты считаешь? А я думаю, что нет…
Разговор на том закончен. То ли из-за сумерек, то ли из-за слов, услышанных от жены, лицо моего друга вымаралось из городского пейзажа. Нам обоим становится ясно, что общей Москвы, общего настоящего нам осталось на два глотка. Мы молча допиваем баклашку, молча ищем урну. Я не выдерживаю, ставлю пустую емкость на тартан, и со сей дури бью по мнимым воротам между урной и стволом клена. Он хватает мысль о воротах налету, бросается на их защиту, как в былые годы, и отбивает мяч. Пузатый мяч, переваливаясь с бока на бок и отчаянно грохоча, снова выскакивает на площадку. Шмель-грузин подмигивает нам. Мы можем продолжить игру. Мясоеды, высунувшись из окон, угольками зрачков высверливают в нас отверстия. Мы с Андреем переглядываемся. Мы хотим продолжить игру. Мы хотим, как прежде. И мясоеды нам не помеха. Нам помеха – что-то другое. Ресница в глазу. Как прежде – уже не будет. Как прежде – не может быть. И мы оба знаем эту правду. Больше того, мы оба видим в ней красоту. Красоту русской драмы. Наконец, мы обнимаемся по-настоящему, искренне, по-товарищески, и расходимся в разные стороны. Я – к станции метро, в сторону Новодевичьего монастыря, мерцающего на той стороне реки. А он – к Киевскому вокзалу. Мне показалось, что в последний миг перед отходом он еще готов был развернуться и прогуляться со мной, но отказал себе в такой свободе. А я? Я тоже не пошел с ним. Пройдя уже метров двести, я обернулся, и долго глядел ему вослед. Странное чувство охватило мое сердце. Фигурка в курточке, белой-белой, как альбинос, серела, серела и исчезла…
Я вернулся домой и рухнул в сон. Разное мне примерещилось этой ночью. Сперва я увидел себя идущим в ванную. И тут мысль, странная мысль – если сейчас на светло-зеленом кафеле я увижу таракана, то плохо кончится для России война на Украине. А тараканов в нашем доме давно уже вывели, должен я заметить… Захожу я, озираюсь, даже приглядываюсь – нет таракана. И спокойнее стало на душе. Моюсь я, моюсь прохладной водой, и возвращаюсь в комнату, к дивану. И тут вижу на стене зверя. Не просто таракан, а огромный, и словно прозрачный, хотя и коричневый. Услыхал он меня, и за диван. А я помню про войну. Нельзя мне его упустить. Никак нельзя упустить. И тут я изо всех сил дергаю диван на себя одной рукой, а другой хватаю половую щетку с длинной палкой и с жесткими ресницами ворса. Зверь бежит от меня в угол, к своему лазу. И даже не бежит, а взлетает на полметра, бежит и снова взлетает и снова бежит. Но я щеткой сбиваю его в полете точным последним ударом, я накрываю его сверху на полу, и бью, бью, бью, я с хрустом вдавливаю зверя в пол. Я знаю, как таракан может быть живуч, но знаю и другое – это его конец, я не оставил ему возможности жить. Но мне страшно убрать щетку, я не хочу видеть того, что осталось на месте страшилища. И я придвигаю диван на место, и ложусь спать. И мне снится сон, что я – на речке Тихая. Летом она черна и нетороплива, а зимой быстро, быстрее прибрежья Ладоги замерзает и становится белой-белой. Весной же Тихая долго держит лед, и в ней тонут рыбаки, излишне понадеявшиеся на его крепость… Ладога рядом, и от озера дует ветер.
А по белой Тихой бежит аллюром крупная, с высокой холкой, овчарка. Это самец по кличке Бонус. В округе немало молодых собак, холкой похожих на Бонуса. А он уже не молод. Он не любит воду, и обычно не верит льду. Но нынче он отправился в путь на другой берег. Что его туда повлекло? Тот берег низкий и теплый, а этот высок и каменист. Я слежу взглядом за Бонусом. Я люблю этого пса. За что? Вопрос, глупее которого трудно что-либо выдумать. Мне он – родной. Отчего родина – родина? Я зову его, кричу ему. Бонус, Бонус! Бонус, иди ко мне. Не ходи туда! Зачем туда? Вдруг вижу: лед под ним трескается, растет черная лунка, и пес проваливается в нее. Он барахтается в мерзлой каше, передними лапами цепляется за кромку, та крошится предательски. Я бросаюсь на помощь, с разбега пластаюсь в прыжке и грудью скольжу к тонущему, отталкиваясь ото льда руками, словно тюлень ластами. Вот я у лунки, я животом чувствую холод тяжелой черноты, от которой меня отделяет призрачная хрупкая корка. Мне страшно, меня охватывает ужас осознания, что обратного пути нет. И я хватаю Бонуса за лапы, я тащу его на себя, но сил не хватает, кромка ломается под его грудью и вот-вот трещина пройдет подо мной. А его морда, нос в нос, передо мной. Грустные глаза глядят на меня так, будто знает Бонус уже всю правду. И тут я вижу – это пес, это Бонус, но не только Бонус, но это и Андрей, это его лицо. Я вижу Андрея, я кричу – дайте веревку, киньте мне веревку, хотя знаю, что нет на моем берегу ни души, а тут трещина с треском разрывает лет подо мной самим, и я падаю в черноту. Я знаю, что спасения нет, из воды нельзя выбраться на хрупкий лет, но я обхватываю Бонуса вокруг туловища и последним усилием выталкиваю на твердь. А он молча глядит на меня глазами Андрея, и дрожит. Вдруг на берегу – человек. Он швыряет веревку, и ее конец оказывается возле меня. Я хватаюсь за нее. «Тащи, тащи». Человек тащит, кромка крошится, мы с Бонусом проламываем лед и приближаемся к нашему берегу. Я отплевываюсь от воды, попавшей в лицо, в нос, в рот. От холода ломит зуб. Только я уже знаю, как натру себя водкой и выпью стакан во спасение со спасителем, а до того заверну Бонуса в полотенце и буду сушить. До меня уже доносится дух печного дыма. Но кто он, человек? Я всматриваюсь в лицо и узнаю голубые глаза. Это Андрей. Это тоже Андрей… И тащит он меня не к нашему, а к другому, к низкому берегу. Это я, хлебнув тихой воды, потерял ориентир… Я не хочу к чужому берегу, не хочу. Но надо же спасти пса! Или Андрея? Я просыпаюсь в растерянности. Встаю попить воды, включаю слабый свет. Что такое, почему диван не придвинут к стенке? Почему примкнута к стенке щетка, что карабин к ноге караульного? Я отодвигаю диван, я поднимаю щетку, и обнаруживаю там, на полу огромное раздавленное тело с распластанными длиннющими ножками, с антеннами усов, с выводком яичек. Тьфу, ужас! Это правда? Так мы победим в войне?
– Холодная весна. Голодный старый Крым
Как был при Врангеле – такой же виноватый
Овчарки+ на дворе, – на рубищах заплаты,
Такой же злой кусающийся + дым…
Часть 2
Тургенев
Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу
И. ТургеневНет, не так. Все-таки мне страсть как не хотелось прощаться… Не хотелось прощаться, и я бы не стал прощаться, если бы нашел тот простой признак, который сразу показал бы, кто из нас на стороне правды. Лакмусовый признак, что-то вроде покраснения щек и опускания глаз… Только нет такого вопроса, потому что отсутствие правды – это уже не вранье, это другое. Это недостаток исторического зрения, что ли? Или, как сформулировал иудейский мудрец, нехватка духовного интеллекта… Правда – исторична, это мое глубокое убеждение. Это не отменяет ее абсолютности.
Да, не так было.
– А я взялся перечитать Тургенева. Представляешь? – так я задержал Андрея на излете. Когда-то мы с ним много говорили о литературе. Он зачитывался Джойсом, читал Оруэлла и Стругацких. Любил американских авторов, Сэлинджера, Апдайка. В последние годы интересовался Акуниным, Улицкой и неким молодым писателем Лебедевым. Помню, он рассказывал мне о романе про русского немца, который оказался меж двух кровавых режимов, советского и нацистского… Мои книги он не дочитывал. Меня это ничуть не обижало и напротив, даже отчасти радовало. Тот, кто дочитывает до конца Улицкую, не должен быть увлечен моими сюжетами. Его литературный вкус я считал несколько… устаревшим, и тоже застрявшим между двумя тоталитарными режимами – постмодернизма и перестроечного антисоветизма. Итак, Тургенев. Тургенев? Да, Тургенев. Почему именно Тургенев? – из вежливости поинтересовался Андрей. А дело в том, что на днях мой знакомый, генерал КГБ СССР в отставке и большой знаток и ценитель русской классики, между делом обмолвился, что Тургенев был агентом русской разведки, и провел годы во Франции и в Германии, поездил по Италии не в поисках избавления от духоты русского воздуха, а по заданиям императорского двора и на кошт царской казны. Меня удивило такое известие, полученное от человека, имевшего доступ к архивам разведки. Я взялся читать путевые очерки Ивана Сергеевича и пришел к выводу, что талантливым пером Тургенева-журналиста вполне могла водить рука Тургенева-разведчика. Чего стоит рассказ о присутствии на казни революционера в Париже.

