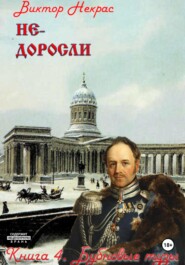
Полная версия:
Бубновые тузы
То так, не исключение. А только праздник не нынче ночью, а только ещё завтра.
– Топи, Потапыч, топи, – вздохнул Булдаков, отходя от окна и снова усаживаясь в кресло. Опять пыхнул трубкой, покосился на бумаги, разложенные по столу, никакая работа на ум не шла после визита штабс-ротмистра. Истопник удовлетворённо кивнул, споро, но без лишней суеты уложил дрова, высек огонь, и скоро в камине весело плясали языки огня, с лёгким треском облизывая звонкие берёзовые поленья, а в трубе загудел дым. Истопник с поклоном скрылся за дверь, а Михаил Матвеевич, несколько мгновений полюбовавшись огнём (живой огонь и текущая вода – вот на что можно смотреть бесконечно, а не на то, как другой человек работает!), вдруг замер. Несколько мгновений он смотрел куда-то на стену рядом с камином остановившимся взглядом, обдумывая пришедшее в голову, потом кивнул сам себе, словно с чем-то соглашаясь и потянулся к колокольчику.
– Павел Сергеевич, будьте любезны доставить мне все докладные записки и рапорты Дмитрия Иринарховича, – и в ответ на удивлённый взгляд секретаря уточнил. – Все, в том числе и те, которые ещё не переданы выше.
Бумаг накопилось немало – толстая картонная папка была набита до отказа, едва хватало тесёмок, чтобы её завязать. Надворный советник криво улыбнулся, вспомнив, как шептались за спиной у Завалишина – что, если бы его изредка не одёргивало начальство, то он это самое начальство утопил бы в бумагах. Впрочем, злые языки злыми языками, а идеи из Завалишина и впрямь летели, как струи из фонтана. И далеко не все из них были пустыми. Лучше даже сказать – пустых среди них пока что директор не встречал ни одной. Вот только не все из них можно было сразу подавать наверх – иные требовалось подредактировать – в увлечении сочинительским пылом лейтенант Завалишин порой допускал такие обороты, что прицепись к письму злопыхатель или крючкотвор – совсем нетрудно было бы трактовать их как оскорбление величества или подстрекательство к бунту.
Неосторожен Дмитрий Иринархович, ох, неосторожен, – вздохнул директор, пытаясь развязать узелок на тесёмке.
– Позвольте помочь, ваше высокоблагородие, – предложил секретарь, но Булдаков только отмахнулся:
– Я сам, Павел Сергеевич, спасибо, ступайте.
Секретарь на мгновение задержался на пороге, обернулся, словно пытался что-то разглядеть – то ли то, как тучный директор будет развязывать крохотный узел, ковыряя его коротко стриженными тупыми ногтями или цепляя его зубами (вот заняться больше нечем надворному советнику!) то ли то, что директор будет делать с бумагами (не твоего ума дело, голубчик! вот уж точно!). Пожал плечами с лёгким недоумением и даже чуть обиженно и скрылся за дверью.
Мучиться с узлом директор не стал. Перочинным ножом перехватил тесёмку, и бумаги из раскрытой папки веером рассыпались по паркету прямо около камина. А, сгорел сарай, гори и хата! Надворный советник сдёрнул с кресла подушку, швырнул её на пол рядом с ворохом бумаг, примостился на подушке, вытянув измученные подагрой тощие ноги – старческие, кривые, в сбившихся набок чулках (и так стал сам себе жалок в этот миг!).
Вот проект об обзаведении земледелием в Русской Америке с основанием постоянных поселений в Калифорнии и переселением туда крестьян-добровольцев из крепостных.
В огонь!
Вот докладная о пользе утверждения русского флота на Сандвичевых островах и его крейсировании от оных до Сакраменто.
В огонь!
Вот предложение об овладении всем течением реки Амур, дабы утвердить русское господство на Дальнем Востоке и наладить регулярную торговлю мехами с Китаем.
В огонь!
Вот критика миссии Резанова в Калифорнии и Японии с указанием по пунктам, что именно сделано не так, и как именно нужно было это делать.
В огонь!
Вот докладная о необходимости союза с нарождающимися революционными хунтами Америки в пику испанскому правительству и Северо-Американским Соединённым Штатам.
В огонь!
Вот меморандум об опасности доктрины Монро для русских владений в Северной Америке – с резолюцией «Предерзостно!, сделанной лично рукой покойного государя.
В огонь!
Бумаги корчились в огне, чернели и рассыпались пеплом. Булдаков, чуть прикусив губу, пошевелил в глубине камина кованой тяжёлой кочергой, разгребая обгорелые листы. Огонь вспыхнул веселее.
Грамотный купец вовремя избавляется от убыточных и опасных активов.
Лицо директора было каменно-равнодушным.
4. 2 января 1826 года, Архангельская губерния, Поморский берег, Онега.
Серебро лежало в ларце тяжёлой грудой, тусклым блеском отражая огоньки светцов и свечей. Частой россыпью темнела чернь, отливала золотом эмаль. Старинное узорочье, ещё от прапрабабки, небось, из времён самого царя Алексея Михайловича, а то и Ивана Васильевича даже. Да и ларец хорош – морёный дуб да рыбий зуб, орех да узорная ковань – тоже старинная работа, тех ещё мастеров, которых сейчас вряд ли где сыщешь.
Приданое, шуликун32 его возьми.
Впрочем, Акулина лукавила сама перед собой – смотреть на старинное серебро ей нравилось. Потому и на гулянку сегодня не пошла, ни на посиделки, ни буянить с молодняком – радости не было на душе, вот и тешила её узорочьем. Хотя кто иной как раз наоборот, побуянить бы пошёл. Святое дело на святки кому-нибудь ворота снегом завалить, а то наметать на крыльцо сугроб по самую кровлю, притоптать плотнее, чтоб хозяин наутро из дома выйти не мог; поленницу развалить, раскидать по всему двору, сани на кровлю повети втащить, ограду разобрать да жерди в сугроб воткнуть стоймя. Ворчит на другой день хозяин сквозь зубы, суетится на дворе, а виноватых искать не пойдёт. А то и искать их не надо, сами у ворот похаживают за через заплот поглядывают – поймёт хозяин намёк или не поймёт. Не поймёт – ну и бог с ним, сам разберётся. А поймёт – поднесёт по стаканчику да вяленого палтуса с пирогом – сами всё в порядок приведут. А хозяин и рад тоже с ними угоститься. Сам когда-то таким был, сам то же самое творил, потому – понимать надо! Потому – праздники, святки, божье время! А таких, кто ругаться бегает, виновных ищет, а то и подраться норовит – таких не любят. Из года в год пакостят.
Хаживала и Акулина на такое озорство с парнями и девками, собиралась и нынче, а только с вечера вдруг подкатило к душе – стало грустно, как частенько в последнее время бывало, вот и осталась дома – на старинное серебро поглядеть, жемчуга погладить – пусть и не настоящие индийские, а здешние, северные, речные, а всё ж таки! Так и представлялось, что вот в этих жемчугах да эмалях бы, да вот под венец… с ним!
Акулина воровато оглянулась, словно рядом кто-то мог подслушать её мысли.
Но рядом никого не было – одна в пустой горнице.
Где-то далеко, за двумя дверьми, за рубленой стеной, за сугробами снега, шумели ряженые – слышался девичий визг, смех парней, выкрики – кто-то хорохорился перед другими, выпячивая грудь. Акулина так и представила, как Спиря Крень (почему-то сразу подумалось, что это именно он – провалиться бы ему!), подбоченясь, гоголем ходит да покрикивает. В берестяной машкере33 с настоящим свиным пятаком, приклеенным к берёсте на рыбий клей, и овчинном тулупе навыворот.
Представилось вдруг вживую, и Акулина фыркнула, чуть ли не хрюкнула со смеху – до того уморительным ей вдруг представилось зрелище.
После того, как на летних посиделках Спиря едва не схлестнулся с кадетами (а у него уже и свинчатка в рукаве была наготове, она-то, Акулина, это хорошо видела), он стал вести себя так, словно она ему что-то обещала. А ей даже видеть его морду было противно. И вот удивительное же дело – парень как парень, не косой, не кривой, не рябой, силой бог не обидел, не дурак… чего ей ещё надо-то?
Не чего, а кого, – тут же возразила она сама себе, и почувствовала, что краснеет. Захлопнула резную крышку и отодвинула ларец подальше. Встала из-за стола, прошлась по горнице от красного угла до печи и обратно, словно пыталась этим прогнать смущение и злость.
Наверху, в полухолодной летней горнице, пели на пять голосов – к матери пришли три подруги, да приживалка с ними:
Вдоль улочки, вдоль широкой,
Вдоль по лавочке, по торговой,
Вдоль по травоньке, вдоль по мураве
По лазоревым цветочкам,
Во танец пошла красная девка.
Голоса звенели – вёл неожиданно (для тех, кто не знает) сильный и звонкий голос приживалки Лукерьи. Вроде и поглядеть не на что, сморщенная старушонка, а голос – одарил бог. За тот голос и держали на дворе – работы никакой Лукерья делать не могла, а вот голосом хозяевам потрафила. А уж мать с подругами подхватывали и подпевали.
Танцовала девушка, приустала,
Приустала красная, задремала;
Задремала, спать ложилась
К милому дружку на колени.
Акулина остановилась у окошка – поглядеть наружу было уже нельзя – ставни на ночь заложили, поберечь тепло. Заслушалась. Так и представилось – сидят впятером у печной трубы (кирпичная труба проходила из нижнего жила через горницу, от неё тянет теплом – вьюшка там, наверху), жужжит, крутится прялка, на светцах трепещут огоньки. Приживалка сучит пряжу шершавыми от многолетней работы ладонями, мотает клубок. А на столе, застелённом небелёной скатертью – пляшка медовухи, поливные и стеклянные стаканы, кутья горкой, олений окорок, копчёная сиговина, мочёная клюква, тульские пряники, калитки и козули.
Гостеванье не гостеванье, посиделки не посиделки.
Всё враз.
Милой во гусельцы играет,
Сам девушку потешает…
«Стань, девушка, , стань ластушка!
Воно идёт твой батюшка
Со родимой со матушкой!» –
– «Иванушка – мой батюшка;
Васильюшка животочек –
Тот мой миленький дружочек.
Я батюшки не боюсь,
Родимого не стыжусь!
Играть пойду, – не спрошусь,
С игры приду, – не скажусь,
С кем гуляю, – не стыжусь!»
Не про неё ль и поют?
На душе захолонуло – неволей вспомнились опять те посиделки в июле. Вот ведь дурища – сама к Власу на шею полезла. А ему то и не нужно вовсе! О питерской небось мечтает, расфуфыренной, в фижме да с декольтой!
Акулина топнула ногой, сжала кулаки.
На дворе глухо подал голос Молчан – коротко рявкнул и тут же смолк. Кого-то несло. Мгновение Акулина раздумывала, не убрать ли ларец с глаз подальше, но так и не шевельнулась – домашние знали про её любимую утеху, а по голосу Молчана было ясно – пришёл кто-то свой.
Отец из гостей воротился, должно быть. Святки – время гостевания. Обычно отец с матерью ездили в гости по родне вместе – к родне да к друзьям, таким же купцам-промышленникам, да к своякам-свояченицам. А сегодня на обоих какой-то стих нашёл: отец – к брату двоюродному в мужскую компанию, а мать – дома с женщинами.
Рановато он, – хмыкнула про себя Акулина, глянув на часы английской работы на стене (дорогая штука даже для онежского купца – отец неложно гордился перед всем городом тем, что у него есть дома часы, как и у больших господ).
Должно быть случилось что-то.
Отец ступал тяжело, грохнул дверью в сенях – должно быть, был гневен или просто не в духе. Интересно, с чего, – у Акулины на душе вдруг непонятно от чего похолодело, словно она предчувствовала, что отцовский гнев будет касаться именно её.
«Господи, пронеси», – прошептала она, но креститься не стала, просто нашла взглядом икону на тябле34. Потом подумала пару мгновений и вдруг, решившись, села за стол, снова раскрыла ларец и сложила руки перед собой – паинька, да и только. Сидит себе, никого не трогает, узорочье разглядывает.
Наверху завели новую песню.
Молодость, молодость, девичья красота!
Я не думала, молодость, измыкати тебя!
Измыкала молодость чужая сторона,
Чужа дальня сторонка,
В чужих людях живучись,
Много горя видучись;
По утру рано встают,
Да долго есть не дают…
Отец долго отряхивался в сенях, словно снаружи валил снег. Может и вправду валил – Акулина не знала, за весь вечер ни разу не выглянула во двор. Не было радости на душе. Опять грохнул дверью, когда пролез в жило, хмуро огляделся. Точно не в духе.
– Мать где? – спросил, словно плюнул.
Акулина не успела ответить, он уже понял сам по тому, что доносилось сверху.
Я у батюшки, у матушки
Тешена дочка была;
Я без спроса, без веленья
Не ходила никуда;
– Не про тебя поют, – процедил отец, скидывая шубу. Покосился на дочь, словно ожидая, что она примет у него шубу и повесит. Не дождался, насупился ещё сильнее, сам набросил шубу на гвоздь в стене. – Ой, не про тебя.
– Не про меня, – согласилась Акулина без улыбки.
– Гляди, Окуля, – пригрозил отец. – Терплю я тебя, а как-нибудь возьму вожжи…
– Случилось что, батюшка? – спросила дочь елейным голосом.
– Случилось, – забрасывая бобровую шапку на другой гвоздь, туманно повторил отец. И повторил задумчиво. – Случилось.
Прошёл к столу, сел напротив Акулины.
– У Алексея Яковлича брат его был…
– Капитан-исправник? – Акулина чуть приподняла бровь. – Дядя Прохор?
Капитан-исправник тоже приходился отцу двоюродным братом, а значит, ей – дядей.
– Не перебивай, – отец говорил миролюбиво, его злость, казалось, куда-то испарилась. – Послушай лучше.
Акулина притихла.
Я без рыбки уж не сяду,
Без калачика не съем,
Без милого спать не лягу,
Без надежды не усну;
Хотя усну, – во сне вижу…
Что сказали про милого:
Милый не жив, не здоров;
Что сказали про милого –
Милый без вести пропал…
– Развылись, – неприязненно процедил отец, покосившись на потолок. – как чуют будто, – он снова повернулся к дочери – Акулина смотрела огромными глазами – словно что-то почуяла тоже. – Прохор рассказал, что в Питере смутьяны-офицеры мятеж подняли против государя…
Акулина кивнула – об этом она, как и всяк человек в Онеге, уже знала, новость разнеслась сразу после Рождества.
– Так там и брат твоего любезного Власа замешался, – отец внезапно опять разозлился. – Аникушка Логгинович, госпо́да с посконным рылом! В крепости сидит нынче! Капитан-исправник про то велел никому не болтать, потому я только тебе и говорю.
Акулина опять молча кивнула – слова не шли. Хотелось возразить что-то отцу, а возразить было нечего.
– И чтоб я тебя больше не видал рядом с этим висельником! – рыкнул отец. Акулина открыла было рот возразить, но отец чуть пристукнул кулаком по столу. – Помолчи! А то я не видел, как ты перед ним хвостом вертишь! Да, он сам там не был – сопляк ещё для таких дел! – а только яблочко от яблоньки…
– Ты ж, батюшка, не против был, – неуверенно возразила Акулина, подавленная огромностью открывшейся беды.
– Был, – подтвердил отец хмуро. – Пока мятежа не случилось. А теперь – не велю. Не хватало ещё нам, Агапитовым, висельной родни.
Что недавно мой милой
Вдоль по улице прошёл,
Шибко, громко просвистел,
На окошко проглядел…
На моём ли на окошке
Там лежала да приметка,
С винограда ветка…
– Не будет у тебя, батюшка, такой родни, – сказала Акулина спокойно (спокойно! – только б слёзы не рванулись!). – Я бы к нему и под виселицу побежала. Да только ему иное надо. Море, да ветер, эполеты да паруса…
Отвернулась.
Слёзы всё-таки прорвались.
Глава 3. По слову и делу
1. 3 января 1826 г. Казанская губерния
Динь-динь-дини-дон…
Колокольчик под дугой коренника звенел уныло и монотонно, загружая скрип снега под конскими копытами и полозьями кибитки, наглухо затянутой чёрной кожей. Ямщик на ко́злах, хмурый, словно сыч, кутался в овчинный тулуп, и только изредка, когда ему казалось, что кони замедляют бег, раскручивал над головой кнут, щёлкая им над конскими спинами, однако так ни разу и не задел даже кончиком хлыста ни вершка конских спин. Жалел, должно быть. Впрочем, кони на каждый щелчок кнута чуть косились на него и исправно наддавали. А ямщик снова кутался в тулуп – казалось, вот-вот заснёт.
Молчал.
Молчальник попался, – с кривой усмешкой думал в таких случаях, кутаясь в такой же тулуп, штабс-ротмистр Воропаев, до недавнего времени – драгун, а с недавнего – жандарм. Впрочем, жаловаться было грех – на прошлом перегоне ему попался чрезвычайно словоохотливый ямщик, который всю дорогу так и подначивал офицера на разговор, и умолк, только когда понял, что штабс-ротмистр разговаривать не желает, а до того – чрезмерно горластый, который всю дорогу распевал заунывные песни. Трудно сказать, что хуже, – слушать песни, отнекиваться от разговоров или слышать заунывный звон колокольчика. Платон Сергеевич не был в восторге ни от одного, ни от другого, ни от третьего, но отмалчивался.
Не до болтовни.
Дорога ровная, без ухабов и тройка шла размашистой рысью, кибитку – не качнёт. Платон Сергеевич чуть усмехнулся (удобный момент, что ни говори!), зубами выдернул пробку из штофа, плеснул водки в гранёную стопку зеленоватого стекла. Расстегай, который ещё утром, в Казани, был вполне себе горячим, теперь остыл, хоть ещё и не застыл. Воропаев хлопнул водку одним глотком – настывшая влага густым ледяным комком прокатилась в желудок и взорвалась там горячей бомбой. Чуток потеплело. Жандарм откусил от расстегая – зубы ломило от водки, холодный пирог немного снял ломоту. Прожевал, утирая чуть слезящиеся от холода глаза, спрятал штоф в дорожный баул.
Вовремя – кибитку вдруг мотнуло на повороте. Дорога свернула, нырнула в прогал между двумя густыми еловыми кустами, и ямщик вдруг оборотился и позвал сипловатым простуженным басом:
– Слышь, барин! Ваше благородие!
Штабс-ротмистр от неожиданности вздрогнул, но тут же справился с собой высунулся в отволочённое окошко кибитки:
– Чего тебе, любезный?
Лёгкий ветерок ожёг лицо морозом – святки в этом году выдались холодные, и кабы не тулуп, да не водка и горячий сбитень на каждой почтовой станции, так кто знает, как бы и доехал Воропаев до нужного места. Разное бывало на Руси, доводилось ему слышать и о замёрзших в дороге насмерть. Да вот и тот, прежний, голосистый то и дело принимался распевать песню про замёрзшего в степи ямщика.
Лицо ямщика оказалось под стать голосу – сизое от мороза, на русой бороде, усах и бровях, на овчинной опушке шапки – густая шуба куржака, нос отливает тёмно-багровым цветом, один глаз прищурен под рассечённой бровью, другой глядит в упор чуть недобро ухмыляясь. Не знал бы, что ямщик, за разбойника бы принял, – глупо подумалось Платону Сергеевичу, и рука сама по себе, как давеча летом, в дилижансе, так и потянулась к рукояти пистолета, заткнутого за пояс.
– Извольте видеть, ваше благородие, – всё так же простуженно отозвался ямщик, указывая вперёд рукоятью кнута. – Вот та дорога, с которой мы свернули, она идёт на Осу да на Пермь, а до того имения, что вам нужно, пара вёрст всего и осталось. Вот тот распадок проедем, там оно и есть!
Ямщик отвернулся и снова умолк, а Воропаев опять закутался в тулуп. Ехать осталось всего-ничего.
Фельдъегерское предписание вместе с приказом к аресту флотского офицера, мичмана Дмитрия Завалишина, Воропаев получил прямо перед самым новогодьем, тридцатого декабря, и выехал в путь почти тут же, только заехал домой для того, чтобы прихватить дорожный баул, стоящий всегда наготове. Бывший драгун был опытным путешественником, и знал, что может понадобиться в столь дальней дороге.
Новый год Платон Сергеевич встретил в Москве – в старую столицу штабс-ротмистр приехал как раз вечером тридцать первого декабря – только для того, чтобы убедиться, что Завалишина в Москве нет уже больше недели, и теперь придётся всё-таки ехать за ним в Казанскую губернию.
Выпил водки с копчёным окороком и бужениной, отдохнул несколько часов – и снова в путь, через заснеженные русские поля и перелески. Из Казани Воропаев выехал нынче утром. Задержек в пути не было – фельдъегерская подорожная позволяла забрать лошадей хоть бы и у самого генерала.
Имение Завалишиных показалось около полудня – большой дом, белённые свинцовыми белилами стены, низкая тесовая кровля, большие окна, затянутые свинцовыми переплётами, высокий забор по вершине холма, из-за зазубренного верхнего края заплота выглядывают низкие кровли флигелей и дворовых построек.
Тройка промчалась через село, единым духом взлетела на холм и остановилась у ворот, гостеприимно отворённых по дневному времени настежь. Колокольчик под дугой коренника смолк, и тут же стал слышен многоголосый лай собак со двора – псы рвались на сворках. Должно быть, кто-то из хозяев любил псовую охоту, – подумал штабс-ротмистр. – Или просто любил собак.
Про хозяев имения Воропаев не знал ровным счётом ничего. Кроме фамилии.
– Приехали, барин, – добродушно прогудел ямщик, спрыгивая с облучка, обошёл кибитку и полез в мешки, уложенные сзади – задать коням овса.
Штабс-ротмистр тоже выбрался из кибитки, распрямляя ноги и поводя плечами – затекли и закоченели за долгую-то дорогу. Пальцы ощутимо ныли в сапогах, и Воропаев клятвенно пообещал себе, что в следующий раз, буде выдастся такая поездка, он непременно возьмёт с собой валенки. А лучше – пимы. И наплевать на нарушение формы одежды, пусть хоть со службы выгоняют.
Впрочем, это он преувеличил.
На службу ему было отнюдь не наплевать – не для того он воевал столько лет на Кавказе – и в Армении, и в Арране, и в Черкесии – сидел в яме у абазехов35, заработал язву на дурной еде и воде, а теперь вот сумел перевестись вместо абшида36 в жандармскую службу, да ещё в самом Санкт-Петербурге, чтобы вот так откровенно махнуть на службу рукой из-за каких-то валенок.
Не из-за каких-то валенок, а из-за отмороженных ног, – тут же брюзгливо поправил он сам себе, обходя вокруг кибитки, притопывая по скрипучему снегу ногами и чувствуя, как в них начинают колоть острые иголочки – в пальцы, в пятки. Кровь разгонялась, отогревая ноги.
Неподалёку, прямо около заплота барского сада – над забором виднелись облетелые яблони, груши и вишнёвые кусты – играла сельская малышня в армяках и шубейках, в треухах и малахаях. Визг, писк, смех, крики. Летели по склону холма вниз по укатанной тропке на салазках, с хохотом валились в снег, тут же тузили друг друга, лезли обратно, деловито сопя. Трое или четверо притащили старые розвальни без оглобель и ладили скатиться на них по склону, набив народ в сани горой. Ко-то с любопытством поглядывал на тройку у барских ворот, и на офицера в тулупе, но ближе не подошёл никто – ни к чему. Да и не так это интересно и весело, иное дело – слететь с холма со свистом, так, чтоб от ветра дыхание перехватило.
– Напоить бы лошадок не мешало, – заметил ямщик как бы между прочим, прилаживая на конские морды торбы с овсом и глянул на штабс-ротмистра, хитро прищурясь.
Платон Сергеевич не ответил, хотя сам себе пообещал поговорить про то с хозяевами. Хотя и то сказать – он приехал человека арестовывать – и у него же будет воды для коней просить? Ещё овса попросил бы!
Впрочем, ямщику по то ничего не известно, он может только подозревать, глядя на затянутую чёрной кожей и простёганную ватой, паклей и войлоком кибитку.
Воропаев сбросил, наконец, с плеч тулуп – морозец тут же обрадованно влез в рукава шинели, под подол и за ворот, но штабс-ротмистр только поправил на голове шляпу, сунул за отворот шинели казённый засургученный пакет серой бумаги, вошёл в ворота усадьбы – с крыльца навстречу уже бежал кто-то из дворни, и зашагал к крыльцу.
– То есть как это – нет дома?
Удовольствие от перерыва в дороге, пусть и невеликое, мгновенно улетучилось.
– Да вот так и нет, ваше благородие, – развёл руками мужик с окладистой полуседой бородой, в армяке внакидку поверх сюртука простенького серого сукна, в нахлобученном набекрень малахае. – Вчера господа уехали, все разом, как есть. И Надежда Львовна, хозяйка, и Дмитрий Иринархович, молодой хозяин, и дочери хозяйские, стало быть…
Платон Сергеевич озадаченно почесал переносицу – прочно въевшаяся привычка.
Разминулись, должно быть.
– И далеко уехали?
– В Симбирск, ваше благородие, – мгновенно ответил мужик (не похоже было, чтоб врал или лукавил – уж в таких-то пределах штабс-ротмистр в людях разбирался). – У хозяйки там сестра двоюродная живёт, за генералом Ивашовым, вот к ним в гости и подались. Да вы проходите в дом-то, ваше благородие, а то – что я вас, точно нехристя какого, прошу прощения, у крыльца-то держу, прошу простить милостиво.



