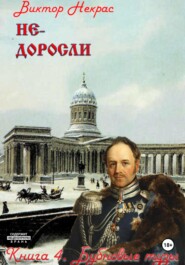
Полная версия:
Бубновые тузы
Вспомнив про Веничку, Влас невольно поискал его глазами. А чего искать-то? Кузен спал. Поджав ноги и свернувшись в клубок под толстым одеялом (за ночь комната довольно-таки выстыла, хотя Власу, с его привычкой к беломорским холодам это и было нипочём), он подложил правый кулак под щеку и ровно сопел носом, выводил переливы. Утренний сон самый сладкий, верность этих слов Смолятин проверил на себе неоднократно – бывает, что в корпусе, услышав барабан на побудку, глаза не в силах разлепить.
А вот сегодня не спалось.
Не до того.
Помор прерывисто вздохнул и осторожно, чтобы не разбудить Венедикта, повернулся на другой бок. Удачно повернулся, почти без шума. Походная складная кровать Иевлева-старшего, не в первый раз уже приютившая Власа, оказалась невероятно скрипучей и на малейшее движение кадета то и дело отзывалась разноголосым пением. В этот же раз она только чуть слышно скрипнула каким-то рассохшимся стыком. У Власа, как и всегда в таких случаях, мелькнула раздражённая мысль: «Дворяне, столичные жители, а такую рухлядь дома держат!», тут же, впрочем, им благополучно забытая – взгляд Власа остановился на книжных полках. Но сегодня его совершенно не тянуло встать, на цыпочках подкрасться к ним, вытащить с полки, к примеру, «Легенду о Монтрозе» и снова нырнуть под тёплое одеяло. В прежние свои гостевания у Иевлевых он каждый раз так и делал.
Не сегодня.
Да и не стоило понапрасну ослушничать – добро ещё, после мятежа Иевлевы не отказались от сомнительной родни, замешанной в заговоре на жизнь государя. Могли и на дверь указать. К чему семейству статского советника такие родственники – карьеру только ломать!
Влас закусил губу и злобно шмыгнул носом.
Опять!
В нём опять заговорило то, что он не любил в себе и своей родне больше всего. Фамильное материнское любование самоуничижением. То, из-за чего Седуновы долго не знались с Иевлевыми совсем, то, из-за чего за пять лет жизни в Петербурге Аникей не нашёл даже дня времени, чтоб не то что навестить дальнюю родню – даже и повидаться с ними.
Гордыня бедности.
Краем уха Влас уловил едва слышное шевеление и тут же закрыл глаза – притворился спящим, подсматривая сквозь ресницы – он умел так смотреть, не моргая, со стороны казалось, что он спокойно спит.
Почти бесшумно приотворилась дверь, и в комнату заглянула женская голова – точёный овал лица и прямой, с вырезными крылышками ноздрей, нос; высокий лоб и чёрные, воронова крыла, волосы, уложенные в аккуратный греческий узел. Самая модная причёска в Петербурге на конец тысяча восемьсот двадцать пятого года, – столичные модницы щеголяли с такой причёской в солидарность с греческими героинями и в пику политике покойного ныне государя, который «не желал помогать одним головорезам против других». Мать Венедикта, Софья Ивановна Иевлева, в девичестве Сабурова. Живые тёмно-карие, почти чёрные глаза быстро обежали взглядом комнату, и голова тут же исчезла, оставив, впрочем дверь приотворённой.
– Спят? – услышал Влас за дверью негромкий, но от того не менее скрипучий чем обычно голос Веничкиного отца. Сильвестр Иеронимович говорил тихо, даже не вполголоса, а полушёпотом, но разобрать слова всё-таки было можно.
– Спят, – вздохнула в ответ Софья Ивановна.
– Ну и пусть себе, – проскрипел Иевлев-старший. – Досталось мальчишке… пусть хоть в рождество в домашнем поспит…
Про меня говорят, – холодея, понял Влас. И вслушался – что-то ещё скажут?
– Да уж… вот оказия так оказия, – проговорила мать Венички тоже полушёпотом. – Не знаю, что и делать… никакого ума не прикладывается. Угораздило же его брата…
Помор сжал зубы. Вот сейчас они и скажут то самое, после которого останется только сделать вид, что ничего не заметил и не понял, но перестать сюда ходить, а с Веничкой-кузеном свести всю дружбу к официальным отношениям. Краями разойтись, как сказал бы уличник Яшка-с-трубкой.
– Да, это верно, – скрипнул статский советник по дипломатической части.
– А что, Сильвеструшка… помочь ему никак? – голоса утихали – должно быть, старшие Иевлевы удалялись от двери Венькиной комнаты. – Может, похлопотать как-то… поднести что-нибудь кому-нибудь?
– Да я уж и сам подумывал… – расстроенно проскрипел Сильвестр Иеронимович. Дальше Влас не слышал – родители Венички ушли. Но если бы и остались и разговаривали в полный голос у самой двери – он и то вряд ли разобрал бы хоть что-то. В душе стоял грохот и сумбур – словно ледоход на Двине или Неве, когда огромные грязно-зеленоватые пузырчатые льдины теснясь ползут по течению, налезая одна на другую, сталкиваются с треском и грохотом, крушат друг друга в мелкие осколки.
Софья Ивановна хлопочет за Аникея?!
Да так, что готова дать кому-то на лапу?
Влас рывком сел на кровати – она немедленно отозвалась ноющим многоголосым скрипом, но помор не обратил на это внимания. А Венедикт даже не шелохнулся – крепок утренний сон.
А глаза-то у тебя уже на мокром месте, – укорил себя Влас, снова шмыгая носом и утирая предательскую слезу, – она катилась по носовой пазухе и уже смочила солёной горечью губы.
На мокром.
Дуэлянт хренов.
Карбонарий7.
Будущий морской офицер.
Девчонка и только!
Влас снова шмыгнул и решительно принялся выбираться из тёплого одеяла.
В коридоре кадет почти сразу же столкнулся с Софьей Ивановной.
– Влас! – обрадовалась она. – И уже в парадное оделся?
Влас словно бы увидел себя со стороны ее глазами – раннее утро, а он уже – в штиблетах и мундире. Ладно ещё фуражку не надел.
Усмехнулся.
– А ты чего так рано встал – ещё и ж восьми часов нет?
– Привык, – сумрачно ответил помор. – В корпусе побудка рано…
– А Венедикт, видимо, не привык, – задумчиво удивилась Софья Ивановна. – Каждый раз спит чуть ли не обеда.
– Ну… – затрудненно пробормотал Влас. – Мне ещё надо…
Он встретился с ней взглядом и вдруг покраснел – понял, что сейчас она неправильно его поймет.
Она именно неправильно и поняла. Видимо, именно из-за того, что он покраснел.
– Ты что, забыл, где у нас уборная?
– Не забыл, – процедил Влас. – Мне другое нужно – с мужем вашим поговорить…
– С дядей Сильвестром, – мягко поправила она, улыбаясь.
– Именно, – насупился Влас. – С дядей Сильвестром.
– Он в кабинете, – опять чуть удивилась Софья Ивановна. – Помнишь, где у нас кабинет?
– Спасибо… тетушка… – с лёгкой запинкой выговорил кадет. – Разумеется, помню.
«Дядя Сильвестр» (у Власа язык всё ещё не поворачивался назвать его дядей) отозвался на стук в дверь мгновенно. Проскрипел из-за двери: «Ворвитесь» со сдержанной иронией.
Влас ворвался.
Ну то есть, вошёл, конечно. Шагнул через невысокий порожек, притворил резную ореховую дверь и остановился, оглядываясь.
В кабинете Иевлева-старшего кадет Смолятин ещё не бывал ни разу, хотя в доме Иевлевых он за прошедший от знакомства с Венедиктом и Софьей Ивановной год был уже достаточно частым гостем – не в пятый ли раз оставался с ночёвкой.
Собственно, смотреть было особо и не на что. Обтянутые недорогим и неброским темно-зелёным шелком стены, такие же, как и по всей квартире, несколько книжных полок, доставленных толстенными томами в матерчатых и кожаных переплетах, потёртых и побитых временем, со стёртой позолотой и серебрением букв. И запах в кабинете стоял особенный – чернила, старая бумага, кожа и лёгкий дымок сгоревшей бумаги. Обтянутый вытертой кожей и даже на вид удобный небольшой диван, кресло в противоположном углу. Подсвечники на стенах и на небольшом столе. Пожалуй, единственным примечательным предметом в кабинете Сильвестра Иеронимовича был секретер английской работы – строгая изысканная скромность форм, темное полированное дерево, скорее всего, орех, обилие потайных ящичков и открытых полочек, откидная столешница и встроенный бронзовый письменный прибор на пять предметов и такой же подсвечник на верхней крышке. Около секретера и сидел «дядя Сильвестр» – повернулся навстречу Власу на поворотном стуле с выгнутой спинкой. За его спиной в неглубокой ниже секретера Влас успел заметить раскрытый бювар жёлтой кожи с разложенными бумагами и толстую книгу на деревянном пюпитре.
– Доброе утро, Сильвестр Иеронимович.
– Доброе утро, Влас, – скрипнул «дядя Сильвестр». На его пенсне поблескивали блики утреннего солнца из окон. – Не спится?
– Не до сна, – сумрачно ответил кадет, по-прежнему стоя у порога.
Иевлев-старший несколько мгновений разглядывал насупленного родственника, потом кивнул в сторону кресла.
– Присядьте, кадет. Я чувствую, у вас серьезный разговор.
Кресло оказалось очень удобным, Влас сразу же утонул в нем и чуть разозлился – нега сбивала с толку. Лучше было бы сесть на стул. Но ладно уж. Не пересаживаться же.
Он выпрямился как мог, положил ладони на толстые подлокотники и сказал, стараясь произносить слова как можно официальные:
– Сильвестр Иеронимович… – и, помедлив, – ваше высокородие…
«Дядя Сильвестр» поморщился и перебил – голос его вдруг стал ещё более скрипучим, хотя казалось бы, дальше скрипеть просто некуда:
– Кадет, вы сейчас, я так думаю, хотите наговорить кучу невообразимых и невыразимых глупостей вроде того, что ваш брат замешан в заговоре, а значит, я рискую карьерой и положением в обществе, принимая вас в своем доме, и тому подобное прочее, не так ли?
Щеки Власа словно охватило огнём, он опустил голову и признался:
– Так.
– Оставьте это досужим сплетникам, – в голосе статского советника явственно слышалось высокомерие, но – странное дело! – Влас чувствовал, что относится оно отнюдь не к нему.
– Спасибо, Сильвестр Иеронимович, – прошептал он, пряча глаза и больше всего боясь, что в них опять стоит соленая вода.
– Не стоит благодарностей, кадет, – сухо сказал «дядя Сильвестр», и этот его тон чудовищно не вязался с тем, что именно он говорил. – Даже если бы я и рисковал чем-то… родственников не выбирают, это единственные люди с нашей жизни данные нам от бога, и грех этим пренебрегать.
– Дядя Сильвестр, – выговорил, наконец, Влас и вскинул на статского советника отчаянные глаза. – А… вы не можете похлопотать… через свои связи.. у вас ведь наверняка есть связи по дворе?.. хотя бы о свидании с Аникеем?
В глазах Иевлева-старшего стояло странное выражение – словно случилось что-то такое, чего он давно ждал. Ну не относить же это к тому, что Влас, наконец, назвал его дядей?
– Я попытаюсь, Влас, – скрипнул он, и этот скрип впервые не показался кадету неприятным и чужим. – Обещать определенно не могу, но я попытаюсь.
4. Санкт-Петербург, 31 декабря 1825 года, Васильевский остров, Морской кадетский корпус.
Свечи чадили.
За окнами стыл зимний петербургский вечер, тёмно-синие сумерки ползли по улицам, сторонясь жёлтого масляного огня фонарей и окон, стелились по промёрзлым и оснеженным мостовым.
Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Егор Данилевский меланхолично перебирал струны гитары, и в спальне царила тишина – примолкли и прежние, и новые.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман.
И только трое – Грегори, Влас и Глеб, прижавшись в углу, негромко, почти шёпотом переговаривались. Впрочем, песню слушали и они.
В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Священный сладостный обман,
Души волшебное светило…
Оно сокрылось, изменило…
Храни меня, мой талисман.
На столе, выдвинутом на середину комнаты – несколько бутылок цимлянского вина, любимого вина атамана Платова, нарезанный ломтиками сыр, солёные крымские маслины, печёные яйца из ближней лавочки на Васильевском острове, овсяное и гороховое толокно – оттуда же, копчёная невская колюшка в глубокой чашке, чёрный бородинский хлеб с тмином, зелёный лук, нащипанный на окне в людской. Около двери – Жорж Данилевский – одно ухо слушает песню брата, второе – прижато к неширокой щели, оставленной неплотно прикрытой дверью – не дай бог, патруль застукает кадет за неподобающим занятием. На табуретке перед Жоржем – глиняный стакан с вином, облупленное яйцо, щепотка соли и несколько ломтиков сыра – доля дозорного.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман8.
Песня закончилась, и Грегори развернул свежую газету. «Северная пчела», – отметил про себя Влас, глядя на заголовок.
– Что пишут? – спросил он без интереса, просто ради поддержания разговора.
– Греки произвели высадку на Кипре, овладели там городом и крепостью Лимасол, – размеренно прочёл Грегори, кося взглядом из-за газеты на друзей. – В средней Аравии шестьдесят тысяч человек арабов разбили совершенно полк египетского паши.
– К чёрту арабов, – процедил Глеб, тем не менее, не сводя глаз с друга и слушая его слова внимательно.
– Про греков давай, – сумрачно поддержал его Влас – он сидел с ногами на кровати, обхватив руками колени и опершись на них подбородком (двадцать пять розог за неподобающую позу, если увидит офицер).
– Про греков, так про греков, – усмехнулся кадет Шепелёв и продолжил, драматически завывая в подходящих местах – должно быть, хотелось развеселить приунывших друзей. – Греческий флот, состоящий из шестидесяти кораблей, шестнадцатого ноября находился перед Наварином в виду неприятелей. С каждой минутой ожидают какого-либо решительного события. Недавно снабдили Миссолунги провиантом на сорок дней. Известие, что Константин Боцарис напал ночью на неприятельский стан, было несправедливо: он взял пятьсот верблюдов, отправленных со съестными и боевыми припасами в армию Решид-паши. Ещё?
– Читай, читай, – хмыкнул Влас, немного оживясь – видимо, театральные ужимки Грегори не пропали даром.
– Ну что ж… – Грегори посерьёзнел, отбросил завывания. – Ибрагим-паша намеревался наводнить войском своим Элиду; часть конницы его достигла до Агушеницы (на левом берегу Алфея) и отправилась вверх по течению Смерны, но была отражена с потерею. Подобное же сопротивление встретили неприятели и при Каламате и Зурте. Они оставили Аркадию и отступили в крепости Мессенские, взяв с собой тридцать человек пленных и всю добычу, которую только могли захватить. Пишут из Гравозы, с Крита, что значительная часть сфакиотов9 и жителей Кидонии, Апокурона и Решима, соединились с восставшими греками. Мустафа-бей расположился при Миссаре, и турки разбили лагерь в Хане. В греческом Сенате предложены были четыре кандидата, для выбора из них губернатора в Крит: Георгий Мавромихали, Трекупи, Александр Маврокордато и Томбази. Сей последний был избран, но он не принял сей должности. – Здесь издают новую газету «Всеобщий журнал». Генерал Лассароль находится в Гасшуни и обучает там конный корпус, составившийся из волонтёров.
Грегори раздражённо скомкал газету и отшвырнул её в сторону.
– Странное ощущение, – задумчиво сказал Влас. – Названия – словно из учебника по классической истории… Элида, Мессения, Аркадия, Крит, Кипр… кажется вот сейчас Тезея упомянут или Геркулеса… а тут – турки, янычары, египетский паша… абсурд какой-то.
– Вот где делаются настоящие дела, – злобно проговорил Грегори. – Шестьдесят кораблей…
Он мечтательно зажмурился, друзья смотрели на него понимающе и сочувственно – они знали, что Грегори сейчас мысленно видит – греческие суда с гроздьями цепляющихся за ванты клефтов10, облака порохового дыма на жерлах пушек, размазанная на палубе кровь.
– Вряд ли там корабли, – отрезвляюще процедил Влас. – Откуда они у греков? Суда. Фелюги, шхуны, самое большее – бриги11.
– Какая разница, – махнул рукой Грегори. – Всё равно – это дело настоящее.
– А поехали туда, – вдруг сказал Глеб, глядя куда-то в окно.
– Куда? – непонимаюше переспросил Влас.
– В Грецию, – пояснил Невзорович. – К Боцарису, к Маврокордато, к Каподистрии, в конце концов. Турок бить…
– Нельзя, – вздохнул Влас. – Русским подданным запрещено лично государем.
– Какая несправедливость, – вздохнул Грегори. – Вот посмотрите – англичане и французы уже там. Кокрен, Лассароль… имя им легион. В конце концов дождёмся того, что они с этого всего наибольшую выгоду и получат, а мы – доскромничаем, в сторонке простоим.
– Ну так вот и надо исправить эту несправедливость! – рубанул ладонью воздух Глеб. Сейчас он и в самом деле готов был поехать в Мессению резать турок во славу русского царя. В конце концов это и есть борьба за свободу.
– Нельзя, – отрезал Грегори, насупясь. – А корпус как же? Это ж моя мечта…
– Твоя мечта – флот, корабли, – возразил Глеб. – А там этого в избытке.
– Всё равно нельзя, – сказал Влас. – Как я брата брошу?
Это возражение все молча приняли и признали.
– Эх, и всё равно, – вздохнул Глеб. – Мутно на душе.
– Как-то всё… – Грегори пошевелил пальцами, словно подыскивая слова. – Расплывчато. Да и неприятно… не знаю. Нет у меня таких слов.
– Ну да, – пробормотал словно бы невзначай Лёве. Он сидел совсем рядом с ними, но почти не вмешивался в разговор – так, изредка ронял слово-другое. Пристроив на кровати Власа большую грифельную доску, мекленбуржец раскладывал на ней игральные карты. Хотя, когда Грегори пригляделся к ним, он тут же переменил своё мнение – карты совсем не были игральными. С первого взгляда они казались знакомыми, но если присмотреться…
– Что – ну да? – нервно переспросил Глеб. Он, казалось из них троих вёл себя живее всех остальных, то и дело дёргался, словно порываясь что-то делать, кого-то бить и за кем-то куда-то бежать. Правда вот пока что не знал – что, кого, за кем и куда.
– Положение у вас сейчас как раз такое, – пояснил Лёве, на мгновение перестав разбрасывать карты по доске. Подумал и ткнул пальцем в одну из карт. – Вот, глянь. Как раз на ваш расклад гадаю. Это девятка мечей, карта которая предрекает неуверенность в своих силах…
– Лёве, – перебил его удивлённо Грегори. – Что это за карты ты там раскидываешь? В каких это картах есть такая масть – мечи?
– В картах Таро, – меланхолично ответил Лёве, разглядывая разложенные по грифельной доске карты. – Другие какие-то карты могут врать, карты Таро всегда говорят правду. При гадании…
– Что, прямо вот так и говорят? – поднял бровь Глеб, который, видимо, что-то знал об этих картах, в то время как остальные слышали о них явно впервые. – Прямо вот так и всегда?!
Лёве на мгновение замялся, глядя на карточный расклад, потом поднял голову и глянул на шляхтича – в глазах его словно таяло и плыло что-то древнее, предвечное, то, о чём не спрашивают попусту. Потом он чуть вздрогнул и в глазах прояснилось – словно думал о другом и вдруг вспомнил:
– Во всяком случае, меня они никогда не обманывали… – он вдруг остановил взгляд на лице Грегори, словно видел его впервые в жизни. – Я, конечно, не могу утверждать, что они всегда говорят правду… – встретив прямые взгляды всех троих друзей-кадет, он запнулся и, наконец, выговорил: – Сейчас они говорят, что вы, все трое, находитесь на перепутье, ждёте условного знака от судьбы или ещё от кого-то-то или чего-то более значимого.
– Что, прямо так и говорят? – скривил губы Глеб. Он, почему-то не верил ни единому слову из того, что говорил Лёве и его карты. – Говорят, что я жду?
Лёве отвёл глаза – всего на мгновение. Потом он вдруг вскинул голову – казалось, ему откуда-то с неслышимых и невидимых полей подали сигнал – а кто именно подал, он не смог бы ни объяснить, ни предположить.
– Я вижу то, что я вижу, – отчеканил он вдруг, словно вдохновлённый страстью или каким-то сокровенным знанием. – Могу и на будущее раскинуть, поглядеть, что вас ждёт. Тут, конечно, ошибиться можно…
– А кинь, – сказал вдруг, странно улыбаясь, Глеб. – Всегда хотел будущее знать… может, хоть поймём, что нам делать-то…
Лёве несколько мгновений смотрел на литвина в упор, потом согласно кивнул и принялся раскладывать карты, но тут уже Грегори, протянув руку, смешал карты в одну кучу.
– Не надо, – сказал он, морщась. – Нет никакого будущего. Только такое, которое мы сами совершим.
Глава 2. От сумы и от тюрьмы
1. 25 декабря 1825 года, Архангельская губерния, Поморский берег, город Онега
Звонили колокола.
Весело разливался, растекался по городу праздничный перезвон, метался по узким и кривым улочкам города от одного заплота к другому, цеплялся за тесовые кровли и лемех12 бочек13, стучался в слюдяные окошки теремов и камницей14 разбросанных по берегу изб.
Звал к заутрене.
Небо на восходе ещё и не думало окрашиваться рассветом, не появилась даже узенькая полоска на самом окоёме, ярко светили звёзды – как будто ледяное крошево рассыпали по шёлковому крепу, горстью швырнули, словно сеятель сыпанул.
А на северной окраине ходили па́зори15 – разноцветные столбы плясали над ледяным полем, дышали, то подымаясь, то опускаясь, причудливыми полотнищами на ветру растекались, потрескивая зелёные, алые и синие, иной раз даже с уклоном в фиолетовый цвет, сполохи16.
Мичман Логгин Смолятин сидел на крыльце, уютно закутавшись в долгополый тулуп из белой шкуры ошкуя17. По правде сказать, шкура когда-то была белой – сейчас от долгого ношения, давно уже стала светло-серой. Изрядно вытертая, она, тем не менее, всё ещё неплохо грела.
Прижавшись к высоким балясинам18 крыльца, мичман забросил ногу на ногу, покачивал носком тёплого унта и курил трубку (кривую, самодельную, но настоящего крымского бриара), попыхивал вкусным манильским дымком (настоящая манила, голландская контрабанда, чтоб вы понимали).
Дома дожидался рождественский стол – печёный гусь, яичница с олениной – любимое блюдо поморов – рассыпчатая пшённая каша на молоке. Молоко, правда чуть отдавало рыбой – год был на сено тощий, и хозяйка, по поморскому обычаю, недавно стала добавлять в сено юколу19. Голодная кутья миновала, но и на рождественском столе почётное место занимали квашеная капуста с мочёной клюквой. В середине же гордо красовалась и бутылка с клюквенной настойкой, рубиново отливала мутноватым стеклом.
Колокола не умолкали, и мичман, докурив трубку, выколотил пепел через перила на снег – сугроб в этом месте был не белый, а серый – зима долга, и мичман не первый раз сидел на крыльце и покуривал. И не в последний, должно быть. Поднялся, разминая ноги, сунул трубку в кисет, глянул в сторону церкви – высокий шатровый четверик20, луковица, крытая лемехом – крест, казалось цепляется за пляшущие па́зори.
Заглушая невнятный (не Матка, чай, не Грумант21, чтоб сполохи с громом ходили) треск, послышался весёлый звон колокольчика, и из-за ближней избы выкатилась оленья упряжка. Утробно хоркая, олени дружно влегали в упряжь, лопарь-каюр весело скалился на передке саней, помахивая осто́лом22, а позади, вальяжно развалясь, сидел онежский капитан-исправник Агапитов в оленьей малице нараспашку. Щеки Агапитова разрумянились – видно было, что он разговелся с утра, не дожидаясь заутрени и теперь спешил искупить грех в церкви.
Логгин Никодимович чуть склонил голову – с Агапитовым они были знакомы слабо, только раскланивались издалека. Как вот сейчас.
Но капитан-исправник неожиданно, заметив мичмана, хлопнул каюра по плечу – тщедушный невысокий лопарь едва не свалился с саней и удержался только по многолетней привычке ездить. Сунул в снег осто́л, и упряжка остановилась, пробороздив снег копытами и концом осто́ла. Олени тяжело дышали, поводили боками, косили выпуклыми глазами. Вожак упряжки, дюжий бык в два с половиной аршина в холке, дружелюбно покосился на Смолятина, потянулся мягкими губами за подачкой. Мичман, весело усмехнувшись (будто знал!) вытащил из кармана сухарь, старый, в табачных крошках. Олень взял угощение с ладони мягко, приветливо фыркнул, переступил копытами по хрусткому снегу.
– Логгину Никодимовичу! – капитан-исправник грузно слез с невысоких саней, встряхнулся, словно пёс, шагнул мичману навстречу с протянутой рукой.
– Прохору Яковлевичу, – отозвался Смолятин, хлопая ладонью о ладонь полицейского.
– Поздорову ль на все четыре ветра? – спросил капитан-исправник негромко, подойдя вплотную. И тут Логгин поневоле встревожился – хоть Агапитов и говорил самые обычные для поморского берега слова, а только как-то странно себя вёл, будто хотел поговорить так, чтоб никто не слышал. Да кому слышать-то, не лопарю ж каюру, который по-русски и знает-то слов с десяток не больше. Да и о чём таиться?



