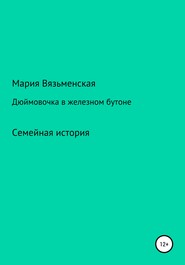 Полная версия
Полная версияДюймовочка в железном бутоне
– Простите, мы ничем не могли помочь, – наклонил голову главный врач. Молодой дежурный, так и не успевший отойти, неловко отвернулся.
– Я не понял, что вы хотите сказать, – произнёс отец.
Потом он будет пересказывать случившееся на разные лады. Иногда в его рассказе заблестит новая, прежде не вспоминаемая деталь, потом она выдохнется, истает, возникнет другая. Лишь суть рассказа останется неизменной.
– Разумеется, я все понял, когда они побежали куда-то. И Тани в палате не было… Но главврач не сказал мне прямо, и я заставил его повторить, – говорил отец.
– Примите наши соболезнования, – главный врач посмотрел отцу в глаза. – Ваша жена скончалась. Мы ничем не могли помочь.
– Почему? Ведь ей стало лучше. Вчера и третьего дня ей разрешили сидеть. Сказали принести сливочное масло. Я говорил с лечащим врачом, она считала, что кризис позади, и жена выкарабкается. Ей было много лучше, – убеждал главврача отец.
– Вероятно, повторное кровоизлияние. Слишком рано разрешили садиться. Сегодня ее повезли на рентген головы. Во время сеанса она потеряла сознание и умерла, не приходя в него.
Папа ушёл из больницы, пешком вернулся в ТЭП. Оглушённый и чёрный пришёл в свой отдел, где все знали его жену – войну провели вместе, восстанавливали Криворожье, работали в Новосибирске, в садоводстве сажали яблони на соседних участках.
– Таня умерла, – сказал он. – Не знаю, как сообщить дома.
Кто-то из женщин всплеснул руками, кто-то упал на стул, зажав ладонью рот.
– Мома, как ты? Что надо сделать? Моисей Борисович!
– Поеду к Таниной сестре. В Гавань. Надо тёщу подготовить, – сказал он друзьям-изыскателям.
В школе чувствовалось приближение весенних каникул. Лариса Ксенофонтовна проверила контрольные работы по чистописанию и арифметике, послушала, кто как читает, поставила четвертные оценки по всем предметам, и 19 марта повела нас с другими первыми классами на утренний спектакль в Большой кукольный театр на улицу Некрасова. Давали «Карлик-нос» по сказке Гауфа.
Мне понравилось чрезвычайно! По дороге из школы я приставала к Миле с рассказами про злую волшебницу, пришедшую на базар купить зелень у бедной женщины; про белок, разъезжавших по паркету в обуви из ореховых скорлупок; про Якоба, превратившегося в карлика с длинным противным носом; про обжору-герцога, который требовал новых и новых кушаний; про заколдованную гусыню, которая помогла Якобу снова стать симпатичным юношей, а он ей – милой девушкой. Дома я ещё раз пересказала спектакль бабушке, а вечером, полная театральных впечатлений, быстро заснула, наверное, часов в восемь. Папы не было, он частенько приходил домой поздно, во впускные дни навещал жену, а то коротал вечера у друзей, живших недалеко от нас.
Проснулась я от страшного вопля Милы.
– Ма-а-ма-а-а!!!! Ма-а моч-ка-а-а!!! – Надрывно кричала сестра. – Ма-а-а-ма-а-а!!! Ма-а-моч-ка-а-а-!!!
Папа крепко обнимал ее, пытаясь прижать к груди разверстый двенадцатилетний рот, но Мила выпрастывала лицо из его объятий и продолжала кричать, задыхаясь от рыданий и слез. Я села в кровати и тоже заплакала. С мамой случилось плохое – подавала мне Мила горькую весть. Никто не смог бы верней передать мне, семилетней, всю меру того непоправимого, что случилось с нами, чем нескончаемый Милин плач.
Папы-мамина комната была полна народу – женщины с папиной работы сидели на стульях и кроватях; жена папиного друга обхватила нашу оцепеневшую Наташу; тётка с тётей Любой хлопотали над бабушкой, лежавшей без чувств; дядя Тиша с дядей Витей неслышно переговаривались возле двери в уборную…
Папа метнулся от Милиной кровати к моей, схватил меня под мышки, почти выдернув из одеяла:
– Мама умерла, Машенька. Мамы больше нет!
Маму хоронили через несколько дней на Богословском кладбище. Папа не хотел, чтобы дочери видели мать в гробу, и на кладбище нас не взяли, даже Наташу. Мы втроём оставались дома. Были ещё какие-то женщины из папиного отдела, ходили из кухни в комнату и обратно, готовили еду, накрывали на стол. Помню молчание, тишину, ожидание и негромкие хлопоты взрослых.
Все вернулись замёрзшие, с холодными руками и серыми кладбищенскими лицами. Садились за стол, на кровать, на какие-то доски…
После похорон бабушка не ночевала на Марата, а уехала к младшей дочери в Гавань. Было поздно, когда я внезапно проснулась. Наташа и Мила спали в своих кроватях, а перед печкой, стоявшей в углу детской комнаты, на низенькой скамеечке спиной ко мне сидел папа. Он сидел в ореоле света от горящих поленьев, наклонившись вперёд и держа голову упирающимися в колени руками. Его плечи вздрагивали, из глубины тела изредка вырывались странные скомканные звуки. Повидав в последние дни множество слез и рыданий, я поняла, что мой насмешливый и самоуверенный папа плачет. На мою подушку падала часть его тени, я не посмела сесть, будто подглядывала что-то запретное, и, не вставая, в голос заплакала сама. Папа с мокрым лицом повернулся ко мне.
– Что, Машук, не спишь? Почему ты плачешь? – Пересел он на мою постель, быстро вытирая глаза.
– Потому что ты плачешь, – ответила я.
– Я больше не буду, – отозвался он, потом помолчал немного, – давай дадим друг другу слово никогда не плакать! Договорились? Я обещаю тебе, что не буду плакать, а ты пообещай мне. Ну, как, даёшь слово?
Я согласно кивнула.
– Вот и хорошо. Спи.
Я закрыла глаза. Папа остался сидеть рядом.
Тот разговор у открытой печки, если эти несколько фраз можно назвать разговором, оказался удивительно значимым в наших судьбах, как будто обещание не плакать о жене и матери, данное отцом и дочерью подле спящих дочерей-сестёр, стало своего рода связующей клятвой, которую мы оба соблюдали в течение многих лет. Со времени маминой смерти и папиных слез, подсмотренных мною, начал сбываться давнишний сон, когда покойная бабушка Муся-Хая предрекла сыну, что третий ребёнок займёт особое место в его жизни. В сорок шесть лет папа остался один с дочерями на руках, но Наташа оканчивала школу и считалась вполне взрослой девушкой; Миле было двенадцать, с ее крепким здоровьем и лёгким характером, верилось, что она вот-вот дорастёт до юности и не пропадёт без мамы; я же, мало того, что была младшей из трех, но, как родилась слабенькой и рахитичной, так и продолжала проваливаться то в одну, то в другую болезнь всю свою семилетнюю жизнь. Пока была мама, я сидела кенгуренком в ее кармане, она выхаживала, вынянчивала меня, а теперь эта тяжкая ноша досталась отцу в наследство и задала вектор его дальнейшей жизни.
Глава пятая: интернат
Бабушка прожила с нами весну и лето, а в сентябре засобиралась в Москву. Первого сентября мы с Милой, как обычно, пошли в родную 212-ю школу. Я во второй, она в шестой класс. Папа хлопотал, чтобы определить нас с сестрой в интернат.
По странному совпадению интернаты – закрытые учебные заведения, своего рода пансионы, были созданы именно в 1956 году, когда оглушенный бедой отец, не совсем понимал, что делать с младшими дочерями. Раньше в СССР существовали только детские дома, где жили дети, не имевшие обоих родителей. Интернаты во многом походили на них: воспитанники тоже носили одинаковую одежду; спали в больших общих спальнях – девочки и мальчики отдельно; ели в столовой; строем ходили в баню; больных детей помещали в изолятор, где за ними присматривала медсестра и так далее. Интернат отличался от детского дома только тем, что у здешних воспитанников имелась семья и родные.
Когда я поступила в интернат номер семь, в нем учились дети сорок второго – сорок девятого годов рождения, и у большинства из них не было отцов – они погибли на войне или, вернувшись, умерли от ран и контузий. Много реже встречались воспитанники, потерявшие матерей, как мы с Милой.
В сентябре того года ленинградские интернаты были полностью укомплектованы, однако в Городском отделе народного образования служили преимущественно женщины, которые, как правило, сочувствуют овдовевшим мужчинам. Инспекторша, курировавшая интернаты, прониклась ситуацией Моисея Борисовича и при первой возможности малолетних девочек Вязьменских определили в интернат, считавшийся лучшим в городе.
Место для меня освободилось после первой четверти, по-видимому, предыдущая девочка из второго класса не выдержала недельных заточений, и ее забрали домой.
Холодным морозным днём 10 ноября папа привез меня в интернат, в котором я прожила два с половиной года. Однажды я попыталась написать об интернате повесть, которая начиналась так…
В трамвае было холодно. «Хорошо, что Маше купили это славненькое пальтишко с пушистым мехом, действительно, похоже, что соболь, неужели настоящий?» – в очередной раз удивился Моисей Борисович.
У завода Козицкого все пассажиры вышли. Моисей Борисович и девочки остались одни, только кондукторша на своем сиденье пересчитывала деньги замёрзшими руками в митенках. Трамвай описал круг и остановился.
– Кольцо, – провозгласила кондукторша, – вам выходить, вон ваш интернат, не спутаешь.
Интернат находился в самой дальней части острова Декабристов – Голодая, как неизменно называл его Моисей Борисович – между заливом и Смоленским кладбищем. Внушительное серое здание одиноко возвышалось над полуплощадью-полупустырём, на котором образовывали круг трамвайные рельсы и неприкаянно торчала будка диспетчера. От той части пустыря, что походила на площадь, вдаль уходила улица, но не с домами, а с дровяными складами за глухими заборами и какими-то рабочими строениями.
– Вон он, интернат, – Моисей Борисович оглянулся на Машу. – Приехали…
– Как я тебе завидую, – пропела, обнимая сестру Милочка, – счастливая ты, Махрюта!
Моисей Борисович улыбнулся, но тут же отвёл глаза, Милочка была их с
Таней любимицей, но теперь он стеснялся этого и старался следить за собой.
Дверь интерната оказалась запертой, и Моисей Борисович постучал несколько раз. Никто не выходил.
– Тут звонок, папа! – Милочка зажала варежку зубами и нажала на неприметную кнопку долгим настойчивым движением. Звонок задребезжал где-то внутри едва узнаваемым звуком.
– Уроки сейчас, вот и не открывают. Маргарита Владимировна велела привезти Машу к десяти. Сколько сейчас? – Моисей Борисович нервничал и суетился в несвойственной ему манере.
Женщина в чем-то зелёно-жёлтом посмотрела из окна второго этажа, махнула рукой, и сквозь двойные стекла входной двери замелькал ее приближающийся силуэт. Дверь открылась. Моисей Борисович и девочки вошли внутрь, неловко столпились внизу лестницы.
Встретившая их женщина была невысокого роста с приятным миловидным лицом, похожим на свежеиспечённую сдобную булочку, и чёрными блестящими волосами, заплетёнными в толстую косу, уложенную венчиком вкруг головы.
– Здравствуйте… – голос Моисея Борисовича оставлял зазор для имени гостеприимной женщины, умело подхватившей приветствие озабоченного родителя, – Ада Арнольдовна, воспитательница второго класса.
– Очень рад знакомству. Очень рад. Тут вещи вашей воспитанницы, – Моисей Борисович старался улыбаться своей, как он шутил, обольстивой улыбкой, подвигая воспитательнице саквояж с Машиным скарбом.
– Ребёнку ничего не нужно. Ей все выдадут. Маргарита Владимировна должна была предупредить вас.
– Да-да, конечно. Я просто думал, что вначале…
– Дети на всем готовом. Кто из них поступает к нам? – Женщина кивнула в сторону девочек, но смотрела на одного Моисея Борисовича, улыбаясь ему широким сдобным лицом. Моисей Борисович неудачно подтолкнул Машу вперёд, которая чуть не упала.
– Папа! Честное слово! – Наташа руками удержала сестру и прижала ее к себе.
Маша подняла глаза и взглянула на женщину, похожую на большую, истекающую сладким соком, жёлтую, спелую грушу, над которой деловито жужжал пчелиный рой. Маша испуганно оглянулась на родных.
– Это ты – Маша? Пойдём, переоденешься, я отведу тебя в класс. – Произнесла женщина.
– Вы, папочка, пройдите в канцелярию. Нужно расписаться, что сдали ребёнка нам, – не переставая улыбаться, женщина повернулась и начала подниматься по лестнице.
– Нюра, запри дверь за родственниками, я поведу ребёнка в класс, —
распорядилась она появившейся нянечке.
Маша не успела поцеловать ни папу, ни Наташу, ни Милочку – папа энергично замахал рукой, иди, мол, иди, и Маша послушно поплелась за жёлтой грушей в зелёной вязаной кофте.
Ада Арнольдовна открыла дверь второго класса, пропуская Машу вперёд. Учительница что-то писала на доске. Дети встали, приветствуя воспитательницу.
– Здравствуйте, Нина Николавна, – кивнула Ада Арнольдовна учительнице.
– Садитесь, дети. Я хочу познакомить вас с новой одноклассницей. Маша Вязьменская – круглая отличница и, надеюсь, будет служить вам примером. Куда ей сесть, Нина Николавна? – Повернулась она к учительнице.
– Садись здесь, Маша, с Борей Марьяловым, – Нина Николаевна указала Маше на третью парту в средней колонке, за которой сидел стриженый мальчик с чёлочкой.
– Правда, что ли? – Пихнул он Машу под партой, когда та села.
– Что правда? – не поняла она.
– Что ты круглая, – уточнил Марьялов. – Списывать даёшь?
– Даю, – обречённо ответила Маша.
После уроков Машу позвали к кастелянше и выдали темно-зеленое зимнее пальто с воротником из чёрного кролика, три платья, нарядное и два повседневных, школьную форму и остальную интернатскую одежду. После школьных занятий воспитанницы переодевались во фланелевые платья, сшитые из блёклого материала в мелкий рисунок, с обязательным поясом на талии. Ткань, по-видимому, подбирали специально, чтобы пятна и грязь терялись в ее невзрачных разводах и становились частью узора.
Маше досталась средняя из трех кроватей, разделенных тумбочками, в торце огромного дортуара. Недавно оштукатуренная стена делила дортуар пополам – в одной половине была спальня девочек Машиного класса, в другой, как в зеркальном отображении, стояли такие же пятнадцать кроватей третьеклассниц. Окна обеих спален выходили на пустырь с трамвайным кольцом. По вечерам кто-нибудь из воспитанниц непременно сидел на банкетке возле окна – залезать на подоконники строжайше запрещалось – и смотрел, как уходят в город почти пустые трамваи.
До и после ужина Ада Арнольдовна приходила в спальню к девочкам и учила их вышивать. Девочки садились вокруг большой полотняной скатерти, по краю которой были выдерганы поперечные нити. Некоторые воспитанницы зацепляли иголками снопики продольных нитей и превращали их в мережковую дорожку. Другие вышивали гладью нанесённый на скатерть рисунок, изображавший гирлянду анютиных глазок, любимых цветов воспитательницы.
Улыбаясь Маше сахарными зубами, Ада Арнольдовна на отдельной салфетке с такими же анютиными глазками показала, как вышивают стебельчатым швом. Вдевать нитку в иголку Маша умела, не раз помогала маме и бабушке, но разноцветное мулине видела впервые, и яркие весёлые нитки восхитили ее. Ада Арнольдовна протянула голубой моток, и Маша принялась старательно наносить стежки по контуру рисунка.
– Славно у тебя получается, – Ада Арнольдовна приблизила Машину салфетку к глазам, – думаю, вам стоит поменяться местами с Люсей Александровой. Смотри, Люся, как Маша аккуратно делает стежки, а ты только рвёшь и портишь. Возьми Машину салфетку и уступи ей место возле скатерти. Садись, Маша, с девочками.
Крупная мосластая Люся Александрова исподлобья оглядела Машу и нехотя встала со своего места. Маша села рядом с рыжеволосой, конопатой девочкой, ловко покрывающей гладью фиолетовый лепесток цветка.
– Ада Арнольдовна, давайте опять рассказывать истории. Чья очередь? – Обратилась рыженькая соседка к воспитательнице.
– Ты, Ира, сама расскажи что-нибудь, а то только любишь слушать других.
– Пусть новенькая расскажет, – Ира выразительно взглянула на пересаженную подружку.
– Маша, ты знаешь какую-нибудь историю? – Вопросительно улыбнулась Ада Арнольдовна.
– Какую историю? – Не поняла Маша.
– Сказку или историю можешь рассказать? – Уточнила воспитательница.
– Ладно, я расскажу про больную кикимору, – легко согласилась Маша.
Как она решилась рассказать незнакомым девочкам про маленькое уютное болотце, где за большой корягой на тёплой кочке жила пожилая кикимора, у которой разболелся зуб, Маша ни за что не смогла бы объяснить. Ее понесло, как называла Машины импровизации старшая сестра. Маша то шепелявила, как ополоумевшая от боли кикимора, то хрипло хихикала, как злорадствующая над ней баба Яга, то бурчала, как пришедший на помощь леший.
Некоторые из девочек застыли с иголками в руках, глядя на разошедшуюся рассказчицу.
– Леший протянул кикиморе больной зуб и сказал: «Посади в болотную кочку, вырастет тебе куст с зубами про запас», – закончила Маша.
– Где ты слышала эту сказку? – Осторожно поинтересовалась воспитательница.
– Нигде, я ее только что придумала, – беспечно ответила девочка.
– Вот это да! – Протянула конопатая Ира. – А ещё про что можешь?
– Не знаю, про что хотите. Скажи, про что, я попробую сочинить.
– Хватит, хватит про кикимор и остальное. Скоро отбой, пора готовиться ко сну, – остановила Ада Арнольдовна.
Скатерть сложили, нитки убрали в большую коробку, воспитательница вышла из спальни.
– Не забудьте почистить зубы, – сказала она напоследок.
Маша разделась и залезла под одеяло одной из первых. Ей было холодно, немного знобило. Ада Арнольдовна вернулась, когда девочки лежали в постелях.
– Ты умеешь заплетать косы? – Подошла она к новенькой.
– Нет, дома мне заплетала Мила или Наташа иногда, – Маша смотрела на воспитательницу огромными глазищами.
– Сёстры?
Маша кивнула.
– Завтра я сама причешу тебя, а потом мы назначим тебе шефом старшую девочку. Спокойной ночи! – Воспитательница выключила свет и вышла из дортуара.
– Новенькая – жидовка и лупоглазая кикимора! – Раздался ехидный голос в углу, где стояли кровати Люси Александровой и конопатой Иры. Девочки засмеялись.
– Ладно, кикимора, расскажи нам ещё что-нибудь. Правда, что у тебя мать умерла? – Спросила, кажется, Александрова.
Маша засунула в рот угол подушки и ничего не ответила.
– Оставь ее, Люська. Пусть спит. Сегодня Ада Арнольдовна дежурит, – произнёс голос рыжей Иры.
Первую неделю пришлось провести в интернатском лазарете. То ли стресс новой жизни повлиял на некрепкую иммунную систему, то ли затаившийся вирус за несколько дней до того начал обустраиваться в моем организме. На второй день учёбы поднялась температура, разболелось горло, и учительница отрядила какую-то девочку довести меня до медсанчасти, где, как в обычной поликлинике, были врач, медсестра и нянечка.
– Девочка останется здесь. – Резюмировала доктор, прослушав мои легкие и осмотрев горло. – Сильный тонзиллит при удалённых гландах. Пусть полежит несколько дней. Скажите воспитателям, что ее можно навещать.
Я лежала одна в большой просторной палате, рассчитанной человек на десять, и бессильно плакала в тишине. Ни мамы, ни бабушки, ни Наташи с Милой.
После ужина Ада Арнольдовна привела девочку, чья кровать в дортуаре стояла подле моей.
– Не знаю, успели вы познакомиться или нет. Это Лариса Шишкина. Я думаю, вы подружитесь. Лариса, на всякий случай посиди у двери на стуле. Не подходи к Маше близко. И недолго, пожалуйста. Скоро отбой.
Лариса болтала ногами, рассматривая палату.
– Никогда не лежала в изоляторе, – вздохнула она. – Я вообще не болею.
Непослушные пряди волос, выбившиеся из небогатых косиц, обрамляли ее простое круглое лицо. По бокам головы свисали два помятых разнокалиберных банта, каждый из которых, вплетённый в одну косичку, был подвязан к основанию другой. На затылке косички переплетались, напоминая ручку плетёной корзины, отчего вся причёска пышно именовалась корзиночкой.
– У меня тоже умерла мама, – вдруг сказала Лариса, не взглянув на меня.
Пароль прозвучал, отозвавшись короткой болью и бескрайним доверием. На секунду остановилось сердце. То, что у меня не было мамы, я ощущала, как затянувшуюся болезнь или полученное увечье. Я ненавидела, когда взрослые вздыхали и с жалостью глядели в мою сторону, сиротка… Или, когда сердобольная женщина норовила погладить по голове… Или, когда ребята интересовались, а правда, что у тебя умерла мать? До сих пор я не встречала ребенка своего возраста, у которого не было мамы. Мамы были у всех, кроме меня. И вот передо мной сидит девочка, у которой тоже нет мамы. Девочка учится со мной в одном классе. Спит на соседней кровати. Сидит на стуле, болтая ногами. У нее смешные косички, она никогда не болеет, и она такая же, как я. С той же чёрной меткой судьбы…
Когда я вырасту, папа расскажет мне, что молодую Ларисину мать на глазах детей – семилетней дочери и двухлетнего сына – зарубил топором отец. Был он пьян или контужен во время войны, или приревновал жену к соседу по квартире – подробностей не осталось. За убийство его посадили в тюрьму, а опеку над детьми оформила незамужняя сестра погибшей женщины. Ларисину тетю я видела много раз: миловидная, тоненькая, улыбчивая, со светлыми волосами. Года двадцать три—двадцать пять, не больше…
Мы с Ларисой различались во всем. Я болтала, любила рассказывать, непрестанно выдумывала истории. Она молчала, неопределённо улыбалась, внимательно вслушивалась в мою болтовню. Я отлично училась, читала книжки и ненавидела ежедневные прогулки на свежем воздухе. Она, наоборот, училась на тройки, книг не читала и обожала гулять во дворе. Тем не менее, ничто не могло разлучить нас.
В начале четвёртого класса мальчики и девочки вдруг заболели любовной лихорадкой. В силу характера я с воодушевлением отдалась этому действу и неделю упивалась наскоро состряпанной любовью к Борьке Марьялову, подарив ему акростих из биографии Веры Инбер, о чем он, естественно, не догадывался:
Ты хочешь знать, кого люблю я?
Его не трудно угадать.
Будь повнимательней, читая.
Я больше не могу сказать!
Потрясённый Борька, которому я – не сразу, не сразу! – подсказала зашифрованную отгадку, подарил мне кулёк конфет. Что делать дальше, мы оба не знали, и вспыхнувший было роман быстренько выдохся и погас, как часто случается и с более зрелыми людьми!
Разумеется, я посвящала Ларису во все перипетии интриги, рассказывая о самых незначительных деталях, однако вскорости выяснилось, что она восприняла незадачливый роман с Борькой как измену нашей дружбе. То ли она поделилась с кем-то горькими мыслями, то ли кто-то из девочек случайно заметил, что она плачет, но непримиримая Люся Александрова обвинила меня в предательстве лучшей подруги. Реакция Ларисы была неожиданной и трогательной, и я многословно каялась перед ней, клянясь в непорочной верности.
Через два с половиной года судьба моя изменилась: папа женился, у меня появилась новая мама, и я возвратилась домой. Дружба с Ларисой оборвалась. Раза два я приезжала к ней в интернат, один раз весной, через месяц после ухода оттуда, второй – осенью.
В первый визит Лариса сидела рядом со мной во дворе, и, пока я распиналась о новой школе, на песке под ее туфлей возникала гладкая прошарканная полоска. Потом Лариса встала, растоптала полоску и, не оборачиваясь, ушла в интернат. Я вернулась домой, обескураженная встречей, но родители объяснили, что Лариса тяжело переживает мой уход и свое одиночество, и что я должна постараться сохранить отношения с нею. Очень важно не оставлять человека в беде одного… Я написала письмо в интернат: ученице четвёртого класса Ларисе Шишкиной, но она не ответила. Осенью съездила туда ещё раз. В газете «Ленинские искры» напечатали моё стихотворение, и очень захотелось похвастаться.
Наши ребята радостно играли во дворе. Там происходило что-то свое, в чем мне не было места.
– Позовите Ларису, – попросила я.
Кто-то кому-то прокричал по цепочке.
– Вязьменская приехала. Позовите Шишкину.
Лариса вышла во двор, молча, выслушала мой стих и захлебнувшийся рассказ
о летнем отдыхе. Я сунула ей кулёк с конфетами.
– Это тебе. Вам. Всем.
Она встала и рассеянно улыбнулась чему-то.
– Пора, – смотрела она в сторону. – Мы сегодня дежурим на кухне.
Около часа я возвращалась домой на трамвае и больше никогда не ездила в интернат. И не писала Ларисе писем. Наши судьбы перестали совпадать, а, как известно, по этой причине чаще всего прерываются человеческие отношения.
В интернат я поступила на два месяца позже других ребят. Кажется, что такое, два месяца? Совсем ничего! Но они уже познакомились, ели, спали, гуляли вместе. Среди девочек появилась парочка подружек-лидеров, вокруг которых завихрились льстивые протуберанцы подобострастия. В детской среде, как правило, новичка встречают враждебно, а здесь, к тому же, явилась новенькая, которую взрослые отрекомендовали отличницей, берите с нее пример. Кому понравится?



