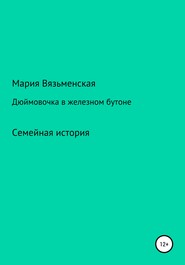 Полная версия
Полная версияДюймовочка в железном бутоне
Не удивительно, что на меня посыпались прозвища, одно обидней другого:
Жаба, Сова, Жидовка… Они пребольно мучили мои самолюбие и гордость. Понимая, что Жаба и Сова достались мне из-за худого остроносого лица с большими выпуклыми глазами, я находилась в полном неведении относительно клички Жидовка. Разумеется, я догадывалась, что оно означает какую-то гадость, но какую именно, абсолютно не представляла.
Когда в наспех проглоченной книжке я встречала незнакомое слово, за объяснениями всегда обращалась к папе, который знал все. В детстве он был для меня единственной энциклопедией, тем более, мой вопрос вряд ли требовал словаря Брокгауза и Эфрона.
– Мапапа, – спросила я его по дороге домой, – что такое жидовка?
Весь год после смерти мамы я по привычке начинала обращаться к ней, но на первом слоге спохватывалась и на том же выдохе договаривала – папа. Выходило – мапапа. Так я звала отца.
Папа помолчал, обдумывая вопрос, потом поинтересовался, где я слышала это слово. Он всегда спрашивал, чтобы точнее определиться в ответе, и я рассказала ему о сове, жабе и неведомой жидовке.
Мы ехали в холодном ленинградском автобусе, окна были белыми от изморози, и улицы тёмного зимнего города сменялись за окном. Я прижималась к отцовскому боку, пропустив руку под его локоть, и задавала тревожащие меня вопросы.
– Сова, – раздумчиво начал отец, – это не просто птица. Свою любимую богиню Афину Палладу греки изображали с совой, сидящей у нее на плече. Сова у греков была символом мудрости, а Афина Паллада считалась богиней войны, знаний, изобретательности. Ты можешь прочесть мифы древней Греции, у нас есть. Я бы на твоём месте гордился, что меня называют Совой. – Я промолчала.
– В средние века, – пошёл папа на второй заход, – люди считали, что совы, ночные птицы, связаны с колдовством и чародейством. Они приписывали им особые свойства и наделяли таинственностью. Согласись, это что-то особенное. Не просто птица, а помощница волшебников. Колдовская птица! Сов-а-а-а! Тебе бы не переживать, а радоваться.
– А жаба? – Понуро поинтересовалась я.
– Что? Жаба? – Похоже, папа увлёкся, – жабы и лягушки очень нужны в природе. Они земноводные животные, потому что обитают и на земле, и в воде. Помнишь, ты летом видела головастиков в Усть-Нарве? Это детёныши лягушек и жаб, потом они превращаются в лягушат и маленьких жаб и живут на суше и в воде. И те, и другие очень полезные животные. Защищают огород от слизняков, которые портят капусту и овощи. Ловят комаров и мошек своими длинными языками. Ты знаешь, что жаба выстреливает языком на несколько сантиметров ото рта? Да, да! Мошки прилипают к его влажной поверхности, и жаба втягивает их с языком обратно в рот. Потом проглатывает. Ты же не любишь, когда комары кусают тебя? Вот, жабы и защищают тебя от них.
Не обижайся на ребят за жабу и сову. Вы пока не учили ни зоологию, ни историю. Подожди, будете в школе проходить про этих животных, и ребята перестанут тебя дразнить. А чтобы сейчас не приставали, отвечай им пословицей
– обзывай хоть горшком, только в печку не ставь.
– В какую печку? – Изумилась я.
– В любую. Это так говорится, чтоб не обзывались, – уточнил папа. – Пословица такая. Назови хоть горшком, только в печку не ставь.
Мой восьмилетний ум не мог охватить папиного плана победы над обидчиками.
– Чтоб ребята обзывали меня не полезной Жабой и не мудрой Совой, а…Горшком? – уточнила я.
– Ты не должна реагировать на насмешки, тогда им станет неинтересно тебя дразнить. Вот увидишь, они отстанут со временем, – развивал стратегию папа.
– Да-а-а-а-а, ты не знаешь Ирку, она не отстанет. Всех девчонок подговорит. И мальчишек тоже, – я представила себе вертлявую Ирку Сажину. Папины доводы съёживались перед ее насмешливой мордочкой. Она не станет слушать ни про любимую богиню греков, ни про комаров с длинными липкими языками. Жаба, Сова. Сова и Жаба. Я вздохнула.
– А что такое жидовка?
Папа, решивший было, что вопросы с обидными прозвищами мы обсудили и проехали, несколько напрягся.
– Видишь ли, Машук…. Есть такая национальность – еврей. А некоторые, не очень хорошие люди обзывают евреев жидами, – папа старательно говорил тем же тоном, каким рассказывал об Афине Палладе.
Стоп! Теперь я совсем ничего не понимала. Запуталась в горшках, печках, не очень хороших людях, национальностях, – что это такое? —которых обзывают евреями, потом каких-то жидах. Получалось, что Жидовка – это ещё хуже, чем Сова и Жаба.
Ранняя ленинградская ночь, бежавшая наперегонки с автобусом, изредка освещалась уличными фонарями, и тогда лёгкая белая зима расцветала на окне.
Папа выпростал руку из обвивавшей моей и, обхватив меня за плечи, стал
горячо объяснять, что мы живём в Советском Союзе, что мы все – советские
люди, и не важно, кто из нас какой национальности.
– Что такое, национальность, папа? – Спросила я.
– Ты читала сказки Братьев Гримм? Это немецкие сказки. Дядя Тиша с тётей Наташей жили в Германии, немецкой стране. Там все люди говорят по-немецки. Немцы – это и есть национальность. Французы живут во Франции и говорят по-французски. Французы – тоже национальность. Понимаешь? Шарль Перро – француз, ты его сказки знаешь. «Мальчик-с-пальчик», «Золушка»… Кто там ещё? – запнулся папа.
– «Синяя Борода», «Кот-в-сапогах», – подсказала я.
– Да, именно, в сапогах, – подхватил папа. – А в нашей стране живут люди многих национальностей. Русские, украинцы, латыши, евреи. Вот я – еврей, понимаешь?
Папа обнимал, объяснял, уводил ребёнка от неудобной темы, расспрашивал о прочитанных за неделю книгах, но новое чувство сопричастности и жертвенности поднималась во мне, подминая все остальное. Я тоже еврейка. Я иная, чем мои одноклассники. От того, что у меня не было мамы, я и так ощущала себя не такой, как все. Я была среди них отличницей – отличалась от них, а теперь отличаюсь и по национальности! Пусть обзываются, как хотят! Я – Сова на плече Афины. Я – болотная Жаба в холодной ночи. Я – Жидовка! Я вместе с папой! Мы с ним евреи!
В понедельник в интернате я подошла к Аде Арнольдовне и попросила записать в классный журнал, что я – еврейка. Там был алфавитный список учеников, где указывались их дни рождения, национальность, домашний адрес, имена и отчества родителей, их места работы… Ада Арнольдовна погладила меня по голове и сказала, что она и так записала меня еврейкой. С самого начала. Я изумилась, откуда она знала?
Папа оказался прав, меня быстро перестали дразнить. Я старательно не реагировала на унизительные клички и изо всех сил улыбалась в ответ: тебе не нужно, чтобы я подсказывала или давала списывать?
Девчоночья половина класса, кроме того, очень скоро обнаружила моё умение сочинить рассказ на любую тему, и среди соседок по дортуару я приобрела особенный статус. Как в тюрьме заключённые ценят занимательного рассказчика, скрадывающего время их заключения, так воспитанницы закрытого интерната, не умея наслаждаться самостоятельным чтением, упивались моими доморощенными страшилками. Больше всего пользовались популярностью вариации на тему кровавого пятна и отрубленной руки. Вероятно, первоначальную канву я где-то услышала, скажем, летом в детском саду или от Милы и ее подружек, а дальше моё неугомонное воображение извергалось самостоятельно. Я наворачивала одну ужасающую деталь на другую, измазывала сюжет литрами человеческой крови и заселяла его ожившими мертвецами. Страшные семейные тайны – какие тайны мог придумать ребёнок восьми-девяти лет, теперь трудно воспроизвести – громоздились одна на другую. Отрубленные руки по ночам залезали в постели, кровавые пятна не смывались фонтанами воды, появляясь все вновь и вновь. Мои соученицы, трясясь от страха, наслаждались заказанным ужасом!
Почти каждый вечер после отбоя, когда дежурный воспитатель уже прошёл по дортуарам, погасив свет и пожелав детям спокойной ночи, Люся Александрова, подруга и компаньонка Иры Сажиной по классному лидерству – сама Ирка предпочитала со мной не связываться, давала отмашку:
– Машка! Не спи! Расскажи что-нибудь!
– Я не сплю. Что рассказывать-то сегодня?
Несколько голосов наперебой предлагали тему, я выбирала и … включала воображение.
Со временем у одноклассниц выработались любимые истории, и от меня требовалось ни в коем случае не отклоняться от канонического текста, наоборот, следовать ему скрупулёзно. Вот когда стало невыносимо скучно! Повторять собственные страшилки, не изменяя сюжет, было невмоготу, поэтому я шла на небольшие уловки. Убеждала восьми—десятилетних слушательниц, что, честное пионерское, не помню, как было в прошлый раз. Может быть, тёмное пятно на полу оказалось входом в волшебное подземелье, а не следом от кровавого побоища в отдельно взятой комнате коммунальной квартиры? Иногда мне удавалась преодолеть консерватизм слушательниц, и я уводила их в другие подземелья и на иные кладбища. Правда, увы, недалеко от предыдущих.
Не единожды я сама засыпала среди собственных рассказов, разочарованная запретом на творчество, и как-то раз неблагодарные слушательницы жестоко наказали меня, вылив на спящую ведро холодной воды.
Я проснулась от собственного крика. Сидя в мокрой постели, я кричала и не могла остановиться. В соседней палате проснулись третьеклассницы, по коридору бежала дежурная воспитательница. А мои соседки притворялись спящими. Воспитательница влетела в спальню, включила свет, бросилась ко мне, что случилось? А я рыдала…
Она заставила меня встать, стащила с тощего тельца мокрую рубашку, накинула полотенце, усадила на банкетку возле кровати… Через какое-то время принесла другой матрас, белье, ночную рубашку – одноклассницы старательно пыхтели под одеялами, предпочитая не вылезать из тёплых убежищ, чтобы не стать свидетелями собственной жестокости. Воспитательница ушла, а я долго боялась заснуть, все лежала, умоляя кого-то, чтоб мама вернулась домой, и меня забрали из интерната.
Два с половиной года выпало мне круглосуточно жить в окружении других детей. В классе, столовой, на прогулке непрерывно сталкиваться с двадцатью девятью сверстниками; в спальне, умывальне, туалете ощущать непременное присутствие остальных четырнадцати девочек. Личного пространства не существовало совсем. Никто из нас ни на минуту не оставался один, это полностью исключалось интернатскими правилами – мы были приговорены к коллективу. Не знаю, как другие ребята, но я, ещё не ведая того, ощущала себя «как на месте публичной казни…»
Даже унитазы в уборной не разделялись перегородками, всем приходилось испражняться под взглядами остальных, а то и под комментарии бойких одноклассниц.
В тумбочки, предназначенные для хранения личных вещей, в основном, зубной щётки и порошка, теоретически, можно было положить что-то свое, скажем, фотографию умершей матери или несколько оставшихся после приезда отца леденцов, или незамысловатый дневник интернатских событий. По неопытности я так вначале и сделала, вскоре, правда, с лихвой пожалев об этом. Не запирающиеся на ключ тумбочки подвергались почти демонстративному нашествию малолетних варваров, абсолютно не подозревавших о частной собственности и правах личности. Украденных конфет было жаль, но больше, чем их пропажа, возмущала несправедливость, ведь мой отец каждую неделю привозил полкило леденцов, которые я честно распределяла между всеми девочками класса. Свою часть я не съедала тут же, а сохраняла в тумбочке на потом, чтобы полнее насладиться чтением книжки под барбариску или дюшес.
Ещё горше, чем кража конфет, оскорбило бесцеремонное разглядывание моих
ежедневных записей и фотокарточки мамы. Фотографию пришлось возвратить в семейный альбом, а дневник я приспособилась прятать в парте между школьными тетрадками и учебниками, которые не интересовали одноклассников.
Жизнь в интернате, как во всех учреждениях, где обитатели должны постоянно находиться на виду у наблюдающего персонала, протекала при ярком электрическом освещении, от которого я очень уставала.
Дома оранжевый абажур и настольные лампы на двух письменных столах уютно-приглушенно освещали наши небольшие комнаты. Временами, когда с улицы проникал дневной свет, я играла на подоконнике, даже не включая электричества…
В интернате укрыться от бесконечного, пронзительного, искусственного освещения было невозможно.
Входя в спальню, дежурная воспитательница нажимала на выключатель:
– Девочки, вставайте! Подъем!
За окнами чернела ночь, зимой в семь часов в Ленинграде ещё темно, но у нас начинался электрический день. Сильный яркий свет сметал приснившуюся тебе радость, как тонкую паутинку из тёмного угла. Надо бы, зажмурив глаза, постараться запомнить упорхнувшее сновидение, но нет ни минуты, чтобы понежиться в постели. Скорей, скорей бежать в уборную, пока в ней не выстроилась очередь из тридцати человек. Белые стены умывальной комнаты слепят глаза, так обильно их поливает свет ламп, привинченных к потолку. К слову сказать, в кранах нет ни горячей, ни холодной воды, одна ледяная. Пока чистишь зубы, их ломит от холода. Воду трогаешь пальцем, бр-р-р! Будто из проруби! Чтобы умыться, брызгаешь на лицо несколько капель и растираешь их по глазам и носу, однако одеваться тепло – батареи не просто горячие, раскалённые, не притронешься!
Громадная столовая так же щедро освещена многочисленными лампами. Мы
сидим по четыре человека за каждым столом. Ковыряем густую манную кашу на пригоревшем молоке. Проглотить ее почти невозможно, но каждому полагается по кусочку сливочного масла и варёному вкрутую яйцу, а то и ломтику сыра. В кружках, алюминиевых или эмалированных, чтобы не бились, тёплый сладковатый чай, которым можно запить бутерброд.
Классная комната тоже желта от электричества. К счастью, она меньше, чем дортуар и столовая, и потому не довлеет, как те. К третьему уроку за окнами начинает светать, однако лампы по-прежнему не выключаются.
После школьных занятий нас выводят на час—полтора погулять во двор. Теперь можно отдохнуть от бесконечного электрического освещения, только, вот, беда – я ненавижу прогулки на свежем воздухе.
В моем детстве зимы в Ленинграде были холодные, снежные. Бегать и прыгать я не любила, в снежки играть, тем более. Паниковала при виде комка, летящего в мою сторону: мозг навсегда запомнил удар мяча, сломавшего нос трехлетней девочке. Стояла в сторонке и мёрзла, пока ребята резвились среди сугробов. Или ходила между кустов боярышника, посаженных осенью в интернатском дворе, и варежкой стряхивала с них пышные шапки снега.
Иногда, уже на третий год жизни в интернате, если Ада Арнольдовна уходила домой после ночного дежурства, я умудрялась оставаться в помещении, не гулять с остальными ребятами. Пряталась в туалете для воспитательниц на первом этаже. Запирала дверь на защёлку и, сидя на стульчаке, с упоением читала очередную книгу.
После прогулки обед в той же ярко освещённой столовой. Суп с лапшой или щи, которые я любила; затем пюре с котлетой или гуляш с макаронами; потом на десерт – кисель или компот из сухофруктов.
В три часа пополудни, когда снова начинало темнеть, мы возвращались в класс готовить домашние задания под присмотром воспитательниц. Это время я обожала! Первой заканчивала заданные уроки, доставала из парты книжку и уносилась прочь от реальной жизни. Одноклассники решали арифметические примеры, вставляли пропущенные слова в грамматические упражнения, а я была далеко от всех, улетев в другие миры и пространства.
Еженедельно мы всем классом ходили в интернатскую библиотеку, где каждый брал одну-две книжки. Я прочитывала их так быстро, что получила разрешение индивидуально менять книги в любой день.
Другие дети читали мало, и, чтобы приобщить воспитанников к внеклассному чтению, наши воспитательницы организовали соревнование. В классную комнату повесили стенд с тридцатью именными кармашками – по количеству учеников. За каждую прочитанную книжку, даже самую тоненькую, (надо было пересказать ее содержание перед всем классом) воспитательница ставила в кармашек ученика жёлтую закладку. Пять жёлтых закладок соответствовали синей, пять синих – красной. Читатель, заслуживший красную закладку, то есть одолевший двадцать пять книжек, получал в подарок книгу. В начале соревнования я первая заработала две книжки, правда, после этого Ада Арнольдовна исключила меня из состязания, объяснив, что остальным ребятам неинтересно соперничать с заведомо сильным противником, которому достаются все призы. С ее правотой спорить не приходилось: я уже читала большие толстые книги, которые брала в библиотеке или покупал для меня отец.
Отступление: папины истории
Пока я была в интернате, папа каждую неделю по средам приезжал навестить меня, и мы сидели на диване в подобии гостиной на нашем этаже в окружении моих одноклассниц: посреди недели ни к кому из них родители не приезжали, и девочки льнули к моему отцу, скучая по ласке.
Я прижималась к правому боку папы, левой рукой он обнимал Ларису – он всегда выделял ее.
Места на всех не хватало, кто-то залезал на спинку дивана, кто-то приносил из спальни банкетку. Девочки жаждали слушать папины истории о приключениях в
тайге.
– Однажды к изыскательской палатке подошёл медведь, – рассказывал папа. – Я что-то писал в планшете и, увидев косматую морду, от неожиданности громко и властно закричал на нее: «Убирайся сию же минуту! Вот ещё выдумал! Ты мне мешаешь!»
Бурый хозяин тайги обалдел. Он остановился в двух метрах от меня, шумно вздохнул – а я продолжал ругать его на все корки – как вдруг развернулся и… бросился наутёк! Наверно, ему показалось справедливым, что я ору на него. Ведь по его, по-звериному, то есть, я защищал свою территорию. «Как человек, однако, сердится, – верно, решил медведь, – надо тикать, пока цел.»
Маленькие слушательницы засмеялись. Я с гордостью поглядывала вокруг: слушайте, слушайте! Это мой папа рассказывает!
– Зверь убежал, а я долго не мог вернуться к работе. – Продолжал папа, переждав смех. – Боялся, что он раздумает и вернётся. На всякий случай положил рядом с собой ружье. Но медведь не вернулся, похоже, и он испугался меня не на шутку!
Папа прижал нас с Ларисой к себе. Остальные девочки заёрзали, зашевелились.
– А медведь был большой? – Обратилась к отцу Ира Сажина.
– Кто его знает, – усмехнулся тот, – мне показалось, огромный, но у страха глаза велики! Может, это был молодой медведь, не вошедший в полную силу. Хотя с человеком он в рукопашную справился бы. Хорошо, что он испугался и убежал. Повезло мне.
И то, что отец не бахвалился, а все равно выходил героем из опасной встречи в тайге, очень мне импонировало.
– Расскажи ещё, – попросила я. Девочки меня поддержали.
– Расскажите, с кем вы ещё встречались!
– Ну, если хотите, слушайте, – не стал отнекиваться отец.
– Как-то ранней весной поднимался я по склону, – начал он, – надо было поставить вешку – ориентир на вершине холма. Карабкался я по крутому косогору и почти наверху ухватился за куст, не маленький, но и не слишком большой. С его помощью было ловчее выбраться наверх. Куст этот я приметил ещё внизу. Рос он на самом краю откоса. Уцепился я за его раскидистые ветки, подтянулся и почти ступил на вершину холма, как куст со всеми его корнями остался в моих руках. Видимо, он держался в земле еле-еле, потому что под ним была уже не земля вовсе, а громадная ямина. Пустое пространство, нора. А в этой норе зимовали змеи. Много-много змей. Вот стою я перед этой змеиной ямой, за спиной косогор, по которому я только что влез, а впереди у меня, не спеша, разворачивается огромный клубок, даже не клубок, а клубище чёрных гадюк, и шевелится.
Я замерла от ужаса. Девочки тоже. Папа молчал, вспоминая.
– Вас укусила змея? – Не выдержала Люся Александрова.
– Нет, – продолжил отец, – я инстинктивно отпустил вырванный куст, отпрянул назад… и кубарем покатился по косогору. В самом низу пяткой напоролся на какой-то сухой пенёк, может быть, острый колышек, не знаю, он прорвал сапог и вонзился мне глубоко в ногу. Кровотечение я сумел остановить, забинтовал потуже и все, но, видимо, в рану попала грязь, и через несколько дней началось воспаление на ступне. Хромал я ужасно, болело адски, ну, а работу никто не отменял. Изыскателю положено в летний сезон успеть проложить маршрут, так что, болит-не болит, будь любезен, пройди свои километры, произведи съёмку местности и занеси в планшет. По найденному тобой маршруту потом проведут линии электропередач. Это высокие столбы с проводами, по которым электрический ток поступает в города. Кто-нибудь из вас видел такие, когда ездил на дачу?
– Я. И я! – Согласились несколько девочек, но Люся не позволила им увести папу от недосказанной истории и перебила одноклассниц. – А что стало с вашей ногой?
– Да, нога, – спохватился папа. – В Ленинграде уже мне прочищали нарыв. Вскрывали его без всякого наркоза. Пришлось терпеть. После перенесённой операции я не мог наступить на ногу чуть ли ни месяц. Сидел дома на больничном. И все зажило. Но главное, что с запланированными километрами наш отряд все-таки справился, и описание найденного маршрута я отправил начальству вовремя.
Девочки загалдели. Каждой хотелось дотронуться до моего отца, что-то сказать ему. Одна рассказала о встреченной летом гадюке, другая про то, как они с бабушкой видели на просеке большущие металлические конструкции с проводами, это для электричества, да?
– Наверное, – отвечал отец, – вокруг Ленинграда строится множество электростанций. У нас большой город, а в нем заводы, фабрики, морской порт, разные предприятия – для них нужно немало электричества. Похоже, вы с бабушкой действительно видели опоры линии электропередач. Где это было, в Тайцах?
Девочка благоговейно кивнула, потрясённая папиным узнаванием именно той станции, где она летом жила у бабушки и видела в лесу столбы с проводами. Остальные одноклассницы заворожённо внимали папиным взрослым и важным словам: электричество, электростанция, линии электропередач, опоры, маршрут.
А я раздувалась от гордости и ещё больше обожала отца в эти мгновения!
Папа вставал с дивана, девочки ещё облепляли его, не давая пройти, но Ада Арнольдовна уже звала воспитанниц в дортуар. Я вцеплялась в отцовскую куртку, папа обнимал меня крепко-крепко, чуть наклоняясь вниз и обдавая терпким мужским запахом.
Как я мечтала уехать отсюда с ним на трамвае! Как тосковала по жизни в родной семье…
Глава шестая: хорошая девочка Маша
В пятьдесят пятом году в Советском Союзе был снят фильм по книге Аркадия Гайдара «Судьба барабанщика». Действие книги и фильма происходит в тридцатые годы в СССР. Сюжет прост: пионер Серёжа берет без разрешения с отцовского стола важную бумагу и случайно теряет ее. За пропажу секретного документа его отца, инженера Баташева, арестовывают и сажают в тюрьму. Оставшись один, Сережа совершает несколько необдуманных поступков, оказывается без денег и попадает в ловко расставленные вражеские сети – в тридцатые годы страна жила в атмосфере махровой шпиономании. Обаятельный шпион представляется мальчику родным дядей, обещает устроить в школу юнг и увозит из Москвы в Одессу, где использует доверчивого пионера в своих коварных целях. В частности, дядя-шпион велит Сереже подружиться с мальчиком, отец которого, крупный инженер, как и арестованный Баташов–старший, трудится на благо военно-промышленного комплекса СССР. Выследив инженера, сообщники псевдодяди убивают его, а Сережа, наконец, прозревает, проявляет пионерскую бдительность и разоблачает врагов. В тщетной попытке скрыться, самозваный дядя стреляет и ранит Сережу в голову. Когда в госпитале к мальчику возвращается сознание, у его постели сидит освобождённый отец. Он доходчиво объясняет сыну, а заодно и зрителям, суть шпионской коллизии, в которой по недомыслию оказался честный советский пионер.
В конце фильма не остаётся сомнений, что раненый Сережа скоро поправится, и они с отцом теперь не расстанутся.
Не помню, когда я увидела «Судьбу барабанщика», по-видимому, во втором классе. Логическая последовательность событий, случившихся с пионером Сережей, заворожила меня. Все было правильно и закономерно, как в сказках, которые я любила: мальчик оступился, совершил неверный поступок – остался без отца и испытал всевозможные неприятности и беды. Когда же он исправился, проявил честность, отвагу и смелость – к нему вернулся живой и невредимый отец.
Фильм превратился в путеводную звезду, навязчивую идею. Он осветил мою жизнь безумной надеждой – я поняла, что должна стать архихорошей девочкой, и тогда… Что произойдёт тогда, я в точности не загадывала. Конкретная награда оставалась расплывчатой, мне не удавалось ее сфокусировать, увидеть воочию, назвать по имени… Я тосковала по маме, семье, мечтала, чтобы все было по-прежнему. Может быть, я ожидала, что мама окажется живой и вернётся обратно?



