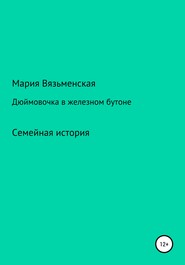 Полная версия
Полная версияДюймовочка в железном бутоне
– Маша не трогай, тебе разобьёт пальцы!
Как я мечтала погладить ее! Немножко, чуть-чуть…
Мне не нужны конфеты, пусть их возьмёт Наташа.
– Маша, садись за стол. Положи Дюймовочку. Иди пить чай.
– Не хочу чая.
С тихим, едва слышным жужжанием лепестки разлетались в стороны. Я смотрела на замершую, испуганную девочку – может, это жужжат крылья большой чёрной жучихи, которую мы обе не жалуем? Вдруг она спикирует с потолка, украдёт Дюймовочку и утащит в жены своему противному жученку?
– Маша, сколько раз я должна говорить – мыться и спать!
Чай выпит, мама собирает посуду, складывает пустые картонки от «Мишки на Севере» – все съели по одной, Наташа остальные. Александр Николаевич ушёл, обещал зайти перед отъездом, а бутон все крутится, крутится, и притихшая Дюймовочка терпеливо ждёт своей участи.
– Я тебе в тысячный раз говорю! Спать сейчас же!
Мама, за день неимоверно усталая и к вечеру уже раздраженная, не выдерживает, хватает игрушку, с силой бросает на пол и каблуком топчет, топчет, топчет ее…
Искорёженные металлические лепестки разлетелись в стороны, спиралька отскочила и укатилась под кровать, глиняная куколка превратилась в горстку разноцветной пыли. Нечего даже погладить пальцем, как я мечтала.
Гадкая чёрная жучиха не уволочёт Дюймовочку к своему жученку. Толстая жаба и слепой крот не подкрадутся ночью к моей кровати. Легкомысленный эльф не дождётся суженой. Не прилетит Дюймовочка в страну эльфов. Ее больше нет. И никогда не будет. Ее растоптала мама.
Глава вторая: я, мама, бабушка, Мудровы
Себя маленькую помню чаще всего больной. Каждая скромная простудка, как только моё детское тельце простодушно впускало ее переночевать, устраивалась в нем надолго, ни за что не собираясь покидать приглянувшееся гнёздышко. Она развёртывалась с размахом – жаль, королевство маловато! – забиралась во все отдалённые уголки моего организма и становилась отпетой хулиганкой. По ночам с восторгом барабанила в ухе какими-то острыми палками, обдирала горло наждачной бумагой и развешивала на нем бурые водоросли, забивала нос противными зелёными пыжами – как будто он был ружьём, с которым она собиралась на охоту. Если бы не мама, моё слабенькое тело пропало бы от непосильной борьбы с наглой оккупанткой.
Любую простуду, грипп или ангину мама прогоняла теплом, горячим молоком с малиновым вареньем, каплями датского короля от кашля, горчичниками, водочными компрессами и камфорными каплями в ухо. Она убаюкивала поселившуюся во мне заразу терпением и любовью, которые та принимала на свой счёт. Глупая болезнь нежилась, жмурилась, капризничала и таяла, таяла, таяла – пока от нее не оставались сопливые следы на моих платках и пустые флаконы от капель и пилюль.
Помню тепло маминого тела – наверно, я у нее на коленях – ее руки держат перед моим лицом книгу братьев Гримм «Горшочек каши». Бумага грубая, жёлтая, почти серая, но рисунки Конашевича славные, хоть и не цветные, а черно-белые. Жила-была девочка. Пошла она в лес за ягодами и встретила там старушку. Угостила девочка старушку спелой лесной земляникой, и старушка подарила ей взамен волшебный горшочек. Стоит только сказать: раз, два, три, горшочек, вари! И горшочек начинает варить вкусную, сладкую кашу.
– Манную? – Спрашиваю я.
– Манную, манную, ты же любишь манную, – отвечает мама. Ухо у меня
забинтовано, пахнет камфарой, спиртом, мне тепло и хочется спать.
– Каша ведь горячая, как они могут ходить по ней? – Удивляюсь я, пока мама укладывает меня в постель и подтыкает одеяло.
– На нее ветерок подул, и она остыла. Спи, – отвечает мама.
Из серьёзных болезней и операций случилось мне при маме пережить скарлатину и удаление гланд. Прививок от нее ещё не было, и скарлатина являла собой серьёзную болезнь, иногда с летальным исходом. У меня поднялась температура, заболело горло, трудно было глотать. Наверно, на второй день появилась сыпь – именно по ней диагностируют заболевание. За мной, четырехлетней, приехала машина «Скорой помощи», меня укутали в одеяло, положили на носилки и задвинули внутрь медицинского фургона. В больнице я провела около месяца. Мама присылала передачи, в них были игрушки, карандаши, альбом для рисования и книжка «Дядя Степа». Михалкова я знала наизусть и читала стихи другим детям, вовремя переворачивая страницы. Когда выписывали, ничего не разрешили забрать – считалось, что вещи сохраняют инфекцию чуть ли не вечно, однако я почему-то знала, что их нагревают в специальном шкафу и потом возвращают играть детям, которые лежат на отделении.
Пока я обитала в стационаре, в квартиру на Марата приезжала бригада из санэпидстанции и облила дезинфицирующим раствором вещи, стены и полы в наших двух комнатах. Игрушки и книжки, до которых я дотрагивалась, больная, увезли.
– Они заразные, с ними нельзя играть, – позже объяснила мне мама.
Я маялась без любимой куклы – дочки-подружки тряпичной Любы, вымазанной йодом, зелёнкой и фиолетовыми чернилами. Любу мне подарили на Новый год, она лежала в большой картонной коробке рядом с записочкой —Кукла Люба. Упаковщица Иванова.
Имя Люба мне очень нравилось. Мила в школе на детских праздниках замечательно читала стихотворение Агнии Барто «Любочка».
Синенькая юбочка,
Ленточка в косе.
Кто не знает Любочку?
Любу знают все.
Кроме героини стихотворения, тётей Любой звали жену дяди Вити Перетти, куда мы с мамой часто ходили в гости. Она была закройщицей и портнихой дамского платья, шила на дому и, похоже, имела успех: бывая у Перетти, я много раз видела молодых женщин, приходивших на примерку.
В начале пятидесятых годов мама тоже пошла учиться шитью в Дом офицеров, и среди многочисленных образцов воротников, карманов и манжет, которые задавали на курсах, смастерила моей кукле Любе халатик, который легко снимался и надевался – немаловажный фактор при медицинской направленности моих игр.
Я с наслаждением раздевала куклу, и, изображая врача, прикладывала трубочку-стетоскоп к ее оголённому туловищу, ставила бумажки-горчичники на грудь и с упоением делала уколы в мягкую тряпочную попку. Стетоскоп, если не путаю, подарил мне один из пользовавших меня врачей.
Отступление: удаление гланд
Доктора были интереснейшей частью бурлящей болезнями жизни! Особенно я благоволила к врачам-мужчинам, которые обращались ко мне с вопросом: «Ну, как мы себя сегодня чувствуем?» Я совершенно не полагала, что это мы объединяет меня с доктором, и он, мол, спрашивает меня о нашем общем самочувствии. Напротив, я смутно ощущала, что обращение Мы заменяет уважительное Вы, с одной стороны не положенное мне по возрасту, а с другой, тем не менее, заслуженное мною благодаря болезням.
К пяти годам я переболела скарлатиной, несколько раз ангиной, и, чтобы стрептококковые инфекции не довели ребёнка до ревматизма, родителям посоветовали удалить мне гланды. Доктора, к которому меня повели, звали ухогорлоносом, и я заранее воображала симпатичного взъерошенного человечка с широким уплощенным носом – должен же он быть похож на животное утконос, иначе, зачем бы его звали почти так же?
– Открой шире рот. Скажи, а-а-а-а-а – обратился ко мне ухонос, примериваясь нажать плоской деревянной палочкой от эскимо на корень моего языка.
– Ох, какая молодец! Даже палочка не понадобилась. Держи в подарок, – протянул мне горлонос неиспользованную палочку и обратился к маме, – да-а-а, а гланды у нас, однако, большущие… Надо оперировать.
– Это совсем не больно! – Уверял папа. – Мне тоже удаляли гланды и после операции дали целый килограмм мороженого.
– Растаявшего? – С недоверием взирала я на папу. Обожая мороженое, я пробовала его только в виде растаявшей и нагретой до комнатной температуры молочной лужицы. Одна из сестёр дала мне лизнуть краешек эскимо, и с тех пор я мечтала о замороженном сливочном счастье.
– Наоборот! Настоящего холодного-прехолодного мороженого! Всех сортов! —
Прищёлкнул языком папа.
– Мало того. После операции у тебя никогда не будет ангин, и ты сможешь часто лопать мороженое.
Замаячивший сливочный рай и серьёзное умное слово операция по отношению ко мне, маленькой и младшей в семье, заворожили меня. Я отправлялась в больницу, предвкушая интереснейшее приключение.
Меня усадили в высокое кресло с поднимающимся сидением и обернули белыми простынями, как мумию. Худые запястья и лодыжки привязали ремнями к подлокотникам кресла и перекладине внизу.
– Чтобы мы случайно не дёрнулись, – объяснил мне уже покоривший меня врач. Я не собиралась дёргаться, мне было ужасно интересно! Вот она моя вожделенная операция!
– Шире рот… Молодец! – Хирург ловко вставил распорку между моими зубами, не позволявшую сомкнуть челюсти. Слюна разом потекла из всех шести желез.
– Ничего-ничего, пусть течёт, – ободрил врач. Ассистирующая сестра промокала капавшую слюну марлевыми салфетками.
– Сейчас я попрыскаю тебе в горло, и оно чуть-чуть замёрзнет, хорошо? – Предупредил хирург. Я кивнула, радуясь сотрудничеству с доктором, бывшим со мной на Мы. Горло онемело, даже слюна перестала течь.
– Теперь я беру инструмент, – посвящал меня врач в детали операции. Передо мной появились блестящие, серебристые, по-видимому, ножницы с привычными кольцами для пальцев, но не с обычными прямыми концами, а как бы с двумя половинками еще одного кольца, гораздо более широкого и заканчивающегося острыми зубчиками. Ра-а-а-з! Хирург ловко всунул ножницы в распахнутый пятилетний рот, захватил в нем что-то, повернул, откусил зубастыми краями кольца и шмякнул в белую эмалированную почку кусок кровавого мяса.
– У-у у! Какая большая! – Удовлетворенно выдохнул он. Поток, как мне показалось, слюны, устремился внутрь горла, я захлёбывалась жидкостью. Ужасный интерес сменился ужасом пойманного в капкан ребёнка.
– Сейчас, сейчас! Потерпи, осталась ещё одна, – врач снова полез ножницами в истерзанный рот. Все удовольствие от приключения исчезло, было больно и хотелось выплюнуть проклятую распорку, чтобы проглотить, наконец, жидкость, которой я давилась. Вторая окровавленная гланда упала из кольца ножниц рядом с первой.
– Все-все, прижжём ранки, чтоб не кровоточили, и станет легче. Как много крови!
– Не глотай, выплюни, – сестра прижала к моему освобождённому рту белую хирургическую почку. Сплёвывать было больно. Глотать тоже. Я тихо плакала от обиды и обманутых ожиданий. Папе, наверно, никогда не вырывали гланды, если он считает, что ЭТО не больно.
Мама сидела у моей кровати и ложечкой отковыривала кусочки желтоватого сливочного мороженого.
– Машенька, открой рот, ты же любишь мороженое! – Уговаривала она. Я пыталась лизнуть кусочек. Отменный сливочный вкус ласкал обиженный язык, но глотать не хотелось, и я отворачивалась от мамы.
– Ты так отважно перенесла операцию! Совсем не плакала. А теперь не хочешь проглотить мороженое? – Улыбнулся подошедший хирург. – Мороженое должно заморозить ранки, которые остались после удаления гланд. Когда ешь мороженое, они заживают быстрее. Поняла?
Поняла и, хотя не простила врачу-утконосу обмана, который ощущала смутно и горестно, не умея объяснить почему, я открыла рот и проглотила несколько ложек мороженого.
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы
Сидя дома с больною дочерью, мама постоянно что-то шила. Окончив курсы кройки и шитья, она надеялась стать надомной портнихой, чтобы как-нибудь облегчить финансовое положение семьи.
Совет научиться шитью маме подала тётя Люба, которая будучи домохозяйкой, давно и успешно шила на заказ женский конфекцион.
В ее квартире на Маяковского стоял чёрный манекен – я побаивалась его, представляя, как будет неприятно, когда он молча шагнёт ко мне. Иногда, стоя рядом с мамой, я с восхищением следила, как ловкие руки тёти Любы укладывали на чёрном теле манекена кусок красивой материи, закалывали его булавками, и вместо безголового тулова возникала фигура женщины в нарядном платье. После того, как мама пошла на курсы шитья, у нас на Марата поселился близнец тетилюбиного манекена. Его я опасалась чуточку меньше, все-таки он был нашим – ручным домашним болваном. Я даже булавки в него втыкала! И он ни разу не ойкнул. Правда, без мамы я все же старалась не проходить вблизи от него – вдруг он захочет пойти за мной? И лишь когда мама оставляла на манекене раскроенное платье, преображавшее надменное тулово в подобие человека или в объёмную вешалку для одежды, я переставала его бояться.
Кроме манекена в портняжном хозяйстве мамы было ещё одно существо, с которым у меня сложились собственные отношения. В швейной машине «Зингер» тонкая деревянная фигурка, напоминавшая скульптуру Джакометти, соединяла педаль с маховым колесом. Почему-то я была убеждена, что эта прикреплённая к железным частям машины деревянная деталь и есть Зингер. Единственная нога человечка упиралась в педаль, руки с двух сторон утолщённой и закруглённой головы-балясины – во втулку махового колеса, и, когда мама жала на педаль, Зингер быстро-быстро скакал на тонкой ноге, крутя перед собой большущее колесо. Машина стучала, гремела, татакала пулемётом, и, сидя на маленькой скамеечке, я заворожено вглядывалась в отчаянную скачку кавалериста. Закончив шитье, мама высвобождала приводной ремень и разрешала поиграть с Зингером. Я осторожно нажимала на педаль или, наоборот, тихонечко трогала колесо – Зингер послушно дёргался вслед, медленно и лениво. Я изо всех сил раскачивала педаль, он убыстрял бег, но ненамного, не желая лететь и скакать, как с мамой.
Обычно «Зингер» стоял у стены тёмной комнаты: мама укладывала меня и Милу спать, а сама портняжила и строчила на швейной машине до поздней ночи. Однажды утром «Зингер» почему-то оказался придвинутым почти к самой двери в коридор. Мама что-то дошивала – на откидной доске швейной машины лежало несколько больших полотен красного цвета, к краям которых мама приторачивала широкую чёрную ленту. Зингер летел, тарахтя пулемётом, мама строчила вдогонку за ним. Она ловко толкала под иглу красное полотно с чёрной лентой, дострочив до угла, поворачивала его, неслась по прямой, останавливалась и высвобождала из-под лапки очередной красно-чёрный кусок ткани, который бросала к таким же готовым, лежащим на стуле. Потом доставала из обшлага рукава носовой платок и подносила к лицу. Я встала с другой стороны «Зингера» и обнаружила, что мама плачет. Я тоже заревела.
– Маша, не плачь. Иди, поиграй с Любой, – высморкалась мама. – Я скоро.
За окном ещё было темно. В коридоре кто-то пробежал, остановился у нашей двери, постучал. Замотанная в платок дворничиха протиснулась сзади мамы.
– Готово? – Выдохнула она.
– Почти. Осталось три флага. Через десять минут закончу, – не осаждая Зингера, ответила мама. Дворничиха схватила гору полотен.
– Щас вернусь. Отдам Василичу, пусть с Пашкой вешают.
У мамы с лица скатывались слезы.
– Сталин умер, – пробормотала она. – Что теперь с нами будет?
Я заревела ещё громче.
Сообщение о смерти Сталина не могло потрясти меня. Я, конечно, знала, что он – вождь: повсюду висели его портреты, Мила в школе учила про него стихи, а я всегда запоминала слова, которые она заучивала. Но мне было четыре года, я росла дома – не посещала детский сад, поэтому имя Сталин для меня не имело смысла, как, впрочем, и слово смерть, а от того, что плакала мама, – от этого было по-настоящему страшно!
Отступление: кукла из Германии
Заработать шитьём маме не удалось. В основном, она обшивала себя и нас. Ткани привозила из Берлина мамина сестра тётя Наташа.
В самом начале пятидесятых годов ее муж Тихон Федорович Мудров был переведён в Ленинградский военный округ, откуда его с семьёй послали на несколько лет в штаб советских оккупационных войск в Берлине. Тётка (в каждой семье какую-нибудь тётю рано или поздно начинают величать тёткой) привозила из Германии роскошные по тем нищенским временам шмотки!
Мне тётка привезла две куклы. Одну, целлулоидного пупса женского пола – пол подтверждали девичьи черты лица и целлулоидная причёска a la фрейлейн Гретхен – я получила вскоре после изъятия эпидемиологической службой моей незабвенной куклы Любы. Немецкую пупсу – а как сказать, если она женского пола? – я назвала Леной. Мама приодела ее в такое же весёленькое платьице, как у нас с Милой, и я играла с куклой в дочки-матери. Играть в больницу с ней было невозможно – твёрдый пластмассовый зад не поддавался уколам. Вероятно, поэтому я любила ее меньше изъятой Любы.
Вторая заграничная кукла была из разряда знаменитых немецких фарфоровых кукол, но, разумеется, рангом пониже – иначе б за нее пришлось заплатить целое состояние! Фарфоровой она была лишь частично – голова, ноги и изящные кисти рук с кокетливо оттопыренными пальчиками. Туловище (чуть не написала тело) и руки от кистей до плеч были сделаны из ткани и набиты ватой. На голове куклы вились настоящие волосы рыже-каштанового цвета и открывались, и закрывались глаза с длиннющими чёрными ресницами. Наряжена кукла была в роскошное ало-голубое атласное платье, надетое на шелковую рубашечку и украшенное белыми кружевами и крохотными пуговками. Из-под подола выглядывали кружевные панталоны, а фарфоровые ножки нежно-персикового цвета были обуты в кожаные туфельки поверх голубых носочков. Что и говорить, кукла предназначалась девочке из очень состоятельной семьи!
Из любви к семейному имени и уважения к конкретной дарительнице куклу окрестили Наташей. Ее посадили на кровать среди подушек, чтоб она не упала, и разрешили мне посидеть рядом.
– Машенька, потрогай Наташу, но не неси ее к себе на подоконник! Играй на кровати. Ты можешь ее разбить. – Сказала мама.
– Нельзя давать ее Маше, она живо выкрасит куклу йодом и наделает ей уколов! – Добавила бабушка.
– Да вы что! Знаете, сколько она стоит? Я не выдержала, купила, такая красота! У меня же одни мальчишки, – засмеялась тётка.
Наташу поселили в шкафу в большой картонной коробке, в которой она приехала из Германии. Изредка куклу водружали на кровать и разрешали посидеть возле нее в присутствии сестёр или кого-нибудь из взрослых. Я и сама понимала, что Наташа – кукла не для игры, а для лицезрения, осторожно брала ее на колени и наклоняла взад-вперёд: фарфоровые веки поднимались, чёрные изогнутые ресницы взлетали, и темно-синие стеклянные глаза бесстрастно смотрели вдаль, не фокусируя взгляда.
Для меня она так и не превратилась в игрушку, оставшись символом далёкого, богатого и благополучного мира, который то ли существовал на самом деле, то ли нет…
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы
В 1955 году Мудровы вернулись из Германии и, получив две комнаты в новом добротном кирпичном доме, поселились на улице Детской недалеко от Гавани на Васильевском острове. В большой трехкомнатной квартире на четвёртом этаже у них было две комнаты, каждая метров по двадцать. Маленькой мне казалось, что семья тёти Наташи живёт роскошно! Из Германии они привезли немецкую мебель и на продажу – пианино из светлого дерева. Пианино какое-то время стояло в одной из комнат и придавало жилищу Мудровых одухотворённость, исчезнувшую вместе с проданным инструментом.
В застеклённом полированном серванте красовались умопомрачительные сервизы: чайный китайский, обеденный саксонский и для вина – красно-белый из венецианского стекла с фигурками женщин, поддерживающих чаши. Немыслимой красоты и, похоже, стоимости!
Мама и тётя Наташа были дружны, и, когда Мудровы появились в Ленинграде, тётка часто бывала у нас, а мы у нее. Ее старший сын Шурка дважды жил в нашей семье по целому году.
В первый раз тётка привезла его в Ленинград из Благовещенска-на-Амуре в году пятидесятом-пятьдесят первом.
Двоюродному брату было лет одиннадцать-двенадцать, характер живой,
деятельный, энергии переизбыток, поэтому буянил он с размахом дикого неодомашненного ребёнка. Маму вызывали в школу, жаловались, что Шурка с ещё одним жеребёнком обоссал все стены уборной – состязались, кто выше сикает. Ей бы спросить – кто ж победил? – но сил и лёгкости не хватило. Своих девочек воспитывать проще.
Бабушка жила с нами, хватала ремень, но Шурка ее не боялся, выворачивался из женских рук, и назавтра маму опять вызывали в школу попенять за его свершения.
Обратно в Благовещенск-на-Амуре Шурку возвращал папа, которого чуть ли не специально послали в командировку на Дальний Восток, дабы избавить семью бесценного специалиста от проделок новоявленного вождя краснокожих.
Во второй раз Шурку прислали к нам, когда Мудровы жили в Германии. Он окончил в Берлине восемь классов, дальше дети советских военнослужащих уезжали доучиваться на родину. Шурка жил у нас зиму 1954-1955 годов, учился в девятом классе.
Отступление: папа и Шурка
Папа Шурку очень любил. Ему не хватало сына, о котором он мечтал всю жизнь. Их привязанность была обоюдной. Дядя Мома! Дядя Мома! – Резонирует возглас с Шуркиной интонацией. Отец любил разговаривать, вернее, рассказывать, вещать, и чтобы слушали внимательно – внимали. А с Шуркой никто до папы не разговаривал, ничего ему не рассказывал, поэтому парня заворожили рассказы о тайге, изысканиях, путешествиях. До восьмого класса Шурка даже книжек не читал – дядька Мома открыл ему мир, где были востребованы сильные характеры и настоящая мужественность.
Летом отец взял племянника в экспедицию куда-то в Сибирь, и Шурка влюбился в поле! Осенью вернулся к родителям, и те изумились, как изменился парень. После школы Шурка поступил в Горный институт, и папа гордился этим. Ещё бы! Шурка шёл по зарубкам, намеченным дядей Момой. Племянник жены, ставший почти что сыном!
После окончания института ему предложили остаться в аспирантуре. Он пришёл к дядьке посоветоваться. Поступить в аспирантуру означало стать кандидатом наук, доктором, возможно, профессором – по мнению отца – слишком быстрая карьера для недавнего шалопая. Ты ее заслужи, аспирантуру! Погорбать в поле, потопчи землю ногами, докажи людям, на что способен…
– Со свиным рылом в калашный ряд? – Усмехнулся отец.
Шурка развернулся, вылетел вон, отказался от аспирантуры. Защитив диплом, он с женой, как и он, закончившей Горный, улетел в Магадан на золотые прииски. Он вступил в партию, стал главным инженером крупного месторождения, сделал карьеру – отец старался следить за ней.
В Ленинград молодые Мудровы приезжали редко. После второй женитьбы отца мы с ними почти не виделись, как, впрочем, и с теткой. Папа переживал, винил одного себя, но не пытался помириться с племянником.
– Почему? – Как-то спросила я.
– А он не простит, – ответил папа.
– Откуда ты знаешь? – Усомнилась я.
– Такие слова не прощают, – покачал головой отец.
Тогда я не знала, что в юности он не простил двоюродной сестре унизительных слов и навсегда! – боже мой, навсегда! – порвал родственные связи с кланом Вязьменских.
Простил он себя когда-нибудь за брошенное в запале Шурке? Надеюсь, простил, я знаю, прощать необходимо всегда, особенно, себя самого. Прощать, чтобы радоваться прожитой жизни, вспоминать ее всю и принимать такой, какой она была. С ошибками и падениями.
Несколько лет назад мы с сестрой Наташей побывали у Шурки. Ему было шестьдесят шесть лет. Он был стар, сед, перенёс инсульт. Сидел на кухне на сундучке, с трудом двигался, опираясь на палочку. Рука висела парализовано, но он улыбнулся мгновенно и щедро, как в детстве, и прижал меня к небритой щеке, и мы оказались с ним в едином пространстве жизни – старые кровники с переплетающимися корнями.
– Шурик, ты помнишь, почему был обижен на нашего отца? – Не удержалась я.
– На дядю Мому? – Переспросил Шурка. – Я никогда не обижался на него.
– Да? А папа всегда считал, что обидел тебя, и ты не простил ему резких слов, – я пыталась поймать невысказанное на постаревшем лице брата.
– Не помню, не знаю, – повторил Шурка. Он действительно не знал, о чем я.
– Почему ты не звонил ему? Не встречался?
– Жили в Магадане. Редко приезжали сюда. Жизнь развела, – отмахнулся он.
Знаешь, папа, я поверила Шурке. Он не помнил твоего калашного ряда, он выстроил свой – с иными калачами, пирогами, сбитнем. Но дорогу туда указал ему ты, и он по-прежнему называет тебя дядей Момой.
Продолжение главы: я, мама, бабушка, Мудровы
Кроме Шурки у нас часто гостила бабушка, наезжая из Москвы. Бабушка овдовела в пятьдесят один год, не имея жилья и средств к существованию. Обе дочери звали ее жить с ними, но обеих содержали мужья, а оказаться на иждивении зятя бабушка не желала. Только что правила в собственном доме, руководила мужем, семьёй, а тут идти в чужой монастырь…



