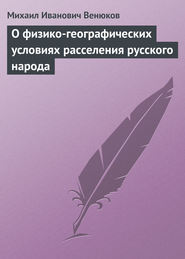 Полная версия
Полная версияО физико-географических условиях расселения русского народа
Значительно менее способна к колонизации восточная половина кавказского наместничества, где встречаются обширные степные пространства по Куме, Тереку и Куре или безлесные, каменистые горы – в Дагестане. Кроме того, здесь уже почти все годные под населения места заняты частью русскими, а частью, и гораздо большею, туземным мусульманским населением. Тем не менее, и восточный Кавказ может еще вместить вероятно до миллиона и более пришельцев с севера, особенно если в долинах его рек, от природы негодных к судоходству, будет введено орошение в роде того, которому начало уже положено да Тереке и Куре. Если же когда-нибудь, через устройство кумо-маныческого канала, будет поднят уровень Каспия, то несомненно, что во всей восточной половине Кавказа воздух сделается влажнее, и те части страны, которые не будут затоплены морем, приобретут почти те же условия производительности, как западная половина перешейка. Мы охотно соглашаемся, что пока этот взгляд есть мечта, идеал; но в том-то и достоинство, как отдельных людей, так и целых наций, чтобы преследовать неуклонно, настойчиво достижение идеалов, имеющих целью общее благо.
Кавказский перешеек, сверх растительных своих богатств, обусловливаемых благорастворенным климатом, заключает в недрах своих и огромные минеральные сокровища, начиная от ныне разрабатываемых нефти, серебра, свинца, железа и пр., до каменного угля, соли, марганца, меди и даже золота. Таким образом, природа не отказала ему ни в чем, чтобы из него могло выйти цветущее экономическое целое, которое притом, по положению своему между двумя морями и, соседстве двух больших государств передней Азии, заслуживает особого внимания ныне господствующего на нем народа русского. В целом своем составе Кавказ на памяти истории ни разу еще не принадлежал одной нации, а тем более такой, которая имеет европейский склад жизни: это, следовательно, как бы пробный камень для колонизаторских или вообще цивилизаторских способностей русского племени.
Не признавая такую исключительную важность Кавказа, как запасной территории для русского народа, мы должны, конечно, оговориться, что лучшие места страны уже заняты и притом народами, которых национальность довольно резво определилась целыми веками истории, так что ассимиляцию их пришлыми русскими элементами трудно предположить осуществимою. Грузины и особенно армяне, вероятно, завсегда останутся грузинами и армянами, хотя бы сделали важные уступки европеизму в обычаях и даже складе понятий. У них есть свои литературы, свои органы общественного мнения и, прибавим, свои национальные интересы, которые отнюдь не всегда сходятся с русскими. А они – хозяева большей половины Закавказья, и если могут мало-помалу слиться с русскими, то лишь благодаря, с одной стороны, влиянию общих интересов научных и нравственно-политических, а с другой – влиянию браков, довольно уже частых особенно между русскими и грузинами. Что до татар тифлисской, елизаветпольской и бакинской губерний, то одна их принадлежность в мусульманской вере кладет довольно широкую пропасть между ними и русскими…. впрочем, также между ними и грузино-армянами. Притом, они занимают либо степи, среди которых нелегко водворить сколько-нибудь значительные русские селения, либо долины в горах Малого Кавказа и Карабаха, где уже все годное для культуры захвачено ими. Наконец, горцы Дагестана и Чечни не только составляют коренное население двух этих провинций, но и упрочены в коих жилищах легальным отводом им земель по межевым планам: очевидно, что само правительство и не думает заменять их русскими колонистами, хотя люди дальновидные, в роде гр. Евдокимова, давно были в пользу удаления горцев в Турцию. И так, остаются на Кавказе более или менее свободным поприщем для расселения собственно русского народа только восточное прибрежье Черного моря и вновь присоединенные области Карская и Батумская. Начало их заселения и сделано, но пока в очень скромных размерах, при чем еще в Черноморском округе и бывших Цебельде и Абхазии сделаны крупные экономические ошибки через раздачу земель не действительным земледельцам, а крупным помещикам, чиновникам и офицерам, которые мало думают о личном водворении на полученных участках, а еще менее о разумной их обработке и о привлечении на них выходцев из России.
Переходя с Кавказа на восточный берег Каспийского моря, мы вступаем на почву Туркмении или, точнее, пустынь, которых южная окраина населена туркменами, а северная – киргизами и хивинцами. Физико-географические свойства этой местности ныне уже довольно известны. Почва – бесплодная, глинистая или песчаная степь, без воды; климат – суровая зима, с холодными ветрами и метелями, и сухое, знойное лето, почти без весны и осени. Цивилизованная жизнь тут невозможна, да не только цивилизованная, а почти всякая. Не многие обитатели страны, прижавшиеся к северным склонам Кепет-Дага, живут преимущественно разбоями, производимыми в соседних персидских провинциях, и едва-ли могут жить иначе, так как небольшие, редкие оазисы их собственной родины неспособны производить достаточно продовольствия для их семей и скота, составляющего почти единственное их достояние. Таким образом, все протяжение Закаспийского военного отдела, фиктивно определяемое в 5 или более тысяч квадратных миль, должно быть сброшено со счетов, когда идет речь о землях, годных для расселения русского племени. Мы готовы даже сказать, что в сумму этих земель закаспийские степи должны быть введены с минусом, ибо удержание их за Россию, неизбежное по политическим соображениям, ничего, кроме убытка, не приносит и приносить никогда не будет, разве если удастся расширить Каспий на столько, чтобы залить значительную долю пустынь[12], при чем, с одной стороны, расширится область рыболовства, а с другой, увеличатся влажность воздуха и зависящее от неё плодородие почвы степей.
Почти то же, что о Туркмении, должно сказать о степях киргизских, простирающихся от Мангышлака до Зайсана и от реки Урала до Бухары. Сухость воздуха здесь так же велика, как и в пустынях, окружающих Хиву, а зимние холода и бураны еще сильнее. Оренбург холоднее Гельсингфорса, а Омск Улеаборга, хотя оба степные города лежат на 1000 верст ближе к экватору, чем города финляндские. В Казалинске, под одинаковою широтою с Лионом, мы находим среднюю годовую температуру в 7,9° Ц., между тем, как в Лионе она переходит за 10° Ц.; а если взять для сравнения амплитуды между самыми теплыми и самыми холодными месяцами в году, то увидим, что разница между ними огромна и, конечно, не в пользу Казалинска. Именно, в Лионе самый холодный месяц, январь, имеет среднюю температуру +1°, а в Казалинске −13°; в Лионе июльская жара не переходит, средним числом, за +18,5°, а в Казалинске она равна +25,5°, что дает разницы между крайностями в Лионе только 17,5°, а в Казалинске целых 38,5°; а это, конечно, отзывается разрушительным образом на здоровье людей и скота, особенно в виду того, что они не имеют таких закрытий от зимних непогод, как во французском городе. У нас с 1820-х годов возникла и даже осуществляется мысль колонизировать степи, где будто бы есть хорошие и обширные земледельческие угодья. Отвергать безусловно пользу такой колонизации, особенно в политическом смысле, мы не можем; но опыт показывает, что положение переселенцев тут незавидно. Были даже случаи, когда приходилось устроенные уже селения оставлять, как, напр., Улутау; вообще же казачьи станицы, а особенно степные укрепления с их поселками, представляют жалкий вид, кроме трех-четырех местностей, в которых возникли степные базары, так сказать, – торговые аванпосты Троицка, Петропавловска и других промышленных пунктов на линии уральско-иртышской, а вместе и этапы для караванов, ходящих с севера на юг, поперек степей и обратно. Во всяком случае, крайним пределом местностей, сколько-нибудь удобных для водворения русских колоний, можно считать 51-ю параллель. Все же, что лежит от неё в югу, или представляет случайные исключения, напр., Фергана, Мианкал, подгорья Алатау, – или вовсе не годится для оседлой, а иногда и не для какой жизни. В придачу заметим, что значительная часть плодородных оазисов уже занята узбекским и таджикским населением, имеющим свою историю и исповедующим мусульманскую веру. Для колонизации русской, особенно сельской, тут очень немного места, и если, напр., в Семиреченской области успели водвориться 30–35 т. душ русских переселенцев, то мы не должны забывать, что они уже заняли все, что можно было занять, так что дальнейший прилив колонистов невозможен. Сумма этих занятых русскими частей Семиречья едва ли превосходит 35 кв. миль, т. е. 1/265 долю страны! Все же остальное – степи, часто совершенно бесплодные, или горы, южные скаты которых обыкновенно представляют голые скалы, а северные производительны лишь тогда, когда на вершинах гор лежит вечный снег. В сыр-дарьинской области, аму-дарьинском и самаркандском отделах места, орошаемые из рек, также повсюду заняты уже местным населением, и русский переселенцы, чтобы водвориться, должны бывают или оттеснять туземцев, или выводить новые каналы для орошения своих полей и садов, что не всегда бывает возможно, особливо в виду того, что для нас очень важно поддерживать две главные реки края – Сыр и Аму-Дарьи – в состоянии, годном для судоходства, т. е. не распускать на арыки. Соображая все это и имея в виду, что номадам нужно также оставить в пользование не одни голые пустыни, а и более или менее удобные пастбища или даже пашни, которые у них имеют огромное политическое значение[13], мы можем сказать, что из пространства в 60 000 кн. миль, принадлежащего нам в Средней Азии, едва ли более 800 миль могут быть когда либо заняты собственно русским народом, а остальная площадь навеки останется за полудикими, кочевыми киргизами или за оседлыми уже, но не дружелюбными к нам таджиками и узбеками.
На севере от степей, как известно, лежат зауральские части губерний оренбургской и пермской, а потом западная Сибирь. Значительная часть двух первых провинций, именно, пространство между реками Уею и Тагилью, достаточно теплое, хорошо орошенное, имеющее плодородную почву, принадлежит к лучшим местностям азиатской России и потому уже ныне довольно густо населено. Тут развились: хлебопашество, скотоводство, горные промыслы и даже некоторые другие заводские производства, не исключая машиностроительного и химических. По физико-географическим условиям эта приуральская полоса земли, в 400 верст длиною и около 250 шириною, много напоминает соседние ей с запада европейско-русские губернии, пермскую и уфимскую, потому для оценки её, как запасной территории русского племени, критерием очень ясен. Она может содержать безбедно до трех миллионов жителей, вместо нынешних 1 200 000. Но колонизировать эту страну новыми выходцами едва ли удобно: почти все лучшие места в ней заняты, а остальное пространство нужно предоставить потомкам теперешнего её населения, которые и обратят его в страну культурную. Что же касается до северо-востока пермской губернии и до юго-востока оренбургской, то на них надежды мало. Первый может доставлять занятия немногим горнопромышленникам и лесосекам, а второй – немногим же скотоводам; но для густого земледельческого населения они неудобны, один по суровости климата, другой – по крайней его сухости.
Затем мы вступаем на почву западной Сибири. О значении этой страны для русской колонизации еще недавно говорил, не без убедительности, известный знаток её, г. Ядринцев, и с большею частью его положений следует согласиться, так как известная полоса земель в бассейне Оби-Иртыша довольна удобна для водворения в ней колонистов из средней и северной России. Но почтенный писатель несколько преувеличил это значение. Так, едва-ли можно сомневаться, что не только большая из принятых им цифр – 285 000 000 д., но и самая малая – 51 000 000 душ, не может вместиться в пространство Барабы и предгорий Алтая. Причин этому много; важнейшая из них – климат. Если мы проведем крайний предел земледелия в Западной Сибири, т. е. линию от Тобольска в Томску и Ачинску, то она отделит ровно ⅗-х всей площади страны, т. е. около 25 000 квадр. миль, которые обречены на историческое ничтожество по той же причине, как губернии улеаборгская, архангельская, олонецкая и большая часть вологодской в европейской России. Остаются, следовательно, 16 000 кн. миль, составляющие южную половину тобольской и томской губерний и северные окраины областей акмолинской и семипалатинской, т. е., говоря географическим языком, Бараба и Алтай. Но Бараба – страна бедная, болотистая и до такой степени мало привлекательная для колонистов, что только силою администрация успела в ней заселить две линии вдоль больших почтовых дорог. На левой стороне Иртыша, между меридианами Омска и Тюмени, правда, население погуще; но и теперь больших удобств для жизни нет, так что, не будь обширных пастбищ для скота и возможности вследствие той же обширности пустырей, вести переложное хозяйство, – население бедствовало бы. Не забудем, что Омск, занимающий почти средину культурной полосы западной Сибири, имеет среднюю годовую температуру всего +0,3° Ц. Средние температуры апреля и октября тоже около +0,5° Ц., а пяти зимних месяцев −15° Ц. В распоряжении земледельца остаются всего 5 месяцев в году, правда, со среднею температурою +15,1° Ц., но с значительными заморозками по ночам в мае и сентябре, даже августе. Оттого во всей Барабе, как и на Алтае, население не знает озимых посевов, и все земледельческие работы должно справлять между 20 апреля и 10 сентября, т. е. в течение 145 дней, а иногда и того скорее. Засухи тоже не редкость в западной Сибири или, по крайней мере, в Барабе; да и все количество атмосферной воды, падающей в течении года на почву, не превосходит, например, в Барнауле, 9 дюймов, что в 2½ раза меньше, чем в Москве. Междугорные и подгорные долины Алтая, конечно, богаты очень хорошими земледельческими угодьями и имеют, кроме того, важное преимущество лежать вблизи богатых металлами гор, по ненужно также преувеличивать их достоинств, потому что средние годовые температуры равны: в Томске лишь −1° Ц., в Барнауле +0,4° Ц. и даже в Семипалатинске лишь +2,3° Ц., что приравнивает весь Алтайский округ к губерниям олонецкой, вологодской и вятской. По этому мы думаем, что если западная Сибирь когда-нибудь населится так, что люди в ней будут потреблять все, производимое её земледелием, ничего не сбывая за пределы края, то это население будет миллионов 18–20, никак не более. Конечно, и 20 000 000 цифра большая, но отсюда до 285 или даже до 51 миллиона расстояние очень значительно. Заметим при том, что в Барабе, кроме Оби и Иртыша, нет судоходных рек, нет камня для устройства железных и даже шоссейных дорог, нет каменного угля для локомотивов; следовательно, все это придется привозить из-далека, не ближе как. с Алтая. В Омске и теперь плитняк для фундаментов сплавляется из Усть-Каменогорска, т. е. за 1 000 верст: от того-то он и обстроен так дурно.
И так, западная Сибирь – страна сравнительно недурная, но не могущая иметь большой экономической будущности. её богатства сосредоточиваются главнейше в её юго-восточном углу, к которому дешевый доступ есть лишь по двум рекам, Оби и Иртышу, но эти реки семь месяцев в году недоступны для судоходства. широких и прочных морских сообщений с Европою установить нельзя, потому что путь туда из бассейна Оби лежит через Обскую губу, Карское море и Маточкин-шар, которые свободны от льда каких-нибудь 80 дней в году, да и тогда не привлекательны для мореплавателей. Железная дорога из Екатеринбурга на Тюмень или Шадринск и Омск, а оттуда на Барнаул и Томск, конечно, может много помочь экономическому развитию края, а с ним и духовному развитию населения; но повторяем опять, возможный предел этого развития тот же, что в олонецкой, вологодской и вятской губерниях, и 25 000 000 душ на всем пространстве, от Урала до границ восточной Сибири нам представляются maximum'ом населения страны даже в самом далеком будущем.
Что же после этого сказать про восточную Сибирь, от Алтая до Тихого океана и от Ледовитого моря до Саяна, Яблонового и Станового хребтов? В ней нолевая изотерма спускается почти до самых южных её пределов, именно до Верхнеудинска (51°50′ м.), и даже южнее этого пункта есть местности, в которых, благодаря высокому их положению, средняя годовая температура ниже ноля, как, напр., в Кяхте (50°21′ м.) −1,1° Ц. и в Нерчинском заводе (51°19′) −3,8° Ц. Не будем уже говорить про енисейский округ или якутскую область, где летом земля оттаивает с поверхности лишь на несколько вершков, а затем представляет ледяную толщу в несколько сажень; возьмем только юг страны: минусинский, красноярский и канский округи енисейской губернии, всю Иркутскую и все Забайкалье. Эти три провинции занимают около 40 000 кв. мили во из них для оседлой, цивилизованной жизни едва ли годна и половина, скорее менее. Безусловно способными к содержанию довольно густого оседлого населения могут быть призваны только долины рек, но и то если они довольно глубоко врезаны в высокую вообще почву страны и, с другой стороны, не обставлены большими горами, в которых дуют холодные ветры. Окрестности Красноярска, Минусинска, Иркутска, Верхнеудинска, Нерчинска производят хорошие яровые хлеба, но в достаточном ли количестве даже для теперешнего редкого населения? Не всегда, как показывают примеры нескольких голодных годов в последнее время. Да оно и понятно. Стоит вспомнить, что река Шилка, под широтою Варшавы (52¼), вскрывается лишь 20–25 апреля, что через Енисей под Красноярском (шир. Витебска) ездят по льду тоже около 25 апреля и что, наконец, нередки случаи, что через Байкал, под 52° шир., переезжают по льду же около 5 мая. Эти данные, полагаем, больше говорят уму, чем знаменитый державинский стих: «Богатая Сибирь…. и пр.», нередко повторяемый на разные лады горячими хвалителями этой страны. Затем, если восточная Сибирь и обладает действительно огромными минеральными и лесными богатствами, то где пути, по которым бы можно были обменивать их на предметы как самой первой необходимости, в роде хлеба, так и цивилизованного обихода, в роде колониальных продуктов, вин, тканей шелковых и бумажных, и пр.? – Устья Енисея и Лены, на которые теперь, после экспедиций Норденшильда, указывают поклонники плаваний по Ледовитому морю? – Но плавания Норденшильда и других были и суть не более, Как удачные налеты, которые отнюдь не всегда будут удаваться, как и доказал пример 1879 года, если уж не брать в расчет многовекового опыта наших предков: Стадухина, Бузы, Прончищева, Лаптева, Шалаурова, Сарычева, Врангеля, Литке, и целого ряда мореплавателей английских и голландских, искавших северо-восточного пути в Тихий океан. Мы знаем, конечно, что «не о хлебе едином человек жив бывает», но и без хлеба-то жить люди не могут, так что по одной этой причине многие страны неспособны вмещать населения более известной цифры. А став на эту точку зрения, мы не можем не заметить, что для восточной Сибири этою предельною цифрою являются 18–20 миллионов душ, из которых притом значительная доля будет, конечно, состоять из бурятов, минусинских и др. татар и якутов, которые все лучше приспособлены к климату страны, чем выходцы из европейской России. Русская колонизация должна рассчитывать на восточную Сибирь даже менее, чем на западную.
К счастью, русские владения в Азии не исчерпываются двумя частями Сибири и Туркестаном: там есть еще у нас и Амурский край. Нет сомнения, что это лучшая из русско-азиатских провинций, особливо в виду её положения у моря, с которым и самые отдаленные от него части её связаны прекрасными водяными путями. По физическим свойствам она напоминает средние части европейской России, от Петрозаводска до Курска и даже более южных местностей, так как, вследствие теплоты лета, в ней возможно созревание винограда и многих плодовых деревьев; по великолепной лесной растительности (дубы, вязы, грецкие орешники, сосны, кедры, красные березы и пр.) она превосходит все остальные части России, кроме западного Кавказа, а по минеральным богатствам едва ли в чем уступает лучшим частям Сибири и Урала. бесплодных земель там нет вовсе, за исключением разве немногих голых каменных вершин в Становом хребте и Сихота-Алине. По математическому своему положению она соответствует даже лучшим странам западной Европы, именно южной Англии, Франции и северной Италии, от Ливерпуля до Флоренции. Но это-то сравнение и наводит нас немедленно на путь к истинной оценке физических условий Амурского края. В то время, как в западной Европе названные сейчас местности лежат между изотермами +9° и +14° Ц., Николаевск и Владивосток, две крайние точки Амурской страны, имеют средние годовые температуры не более: первый −2,7° Ц., а второй +4,7° Ц. Это, следовательно, климаты Скандинавского полуострова, а не Аппенинского, даже не Франции и Бельгии. Поэтому, принимая в рассчет, что собственно для земледелия в Амурском крае найдется годною лишь половина пространства (5 500 к. м.), а остальная земля должна навсегда остаться под лесами, пастбищами и горными приисками, мы можем предположить, что вероятный предел населения страны есть 15–16 миллионов душ, из которых три четверти, конечно, разместятся на среднем Амуре, в бассейне Усури и на прибрежье Японского моря, оставив подножия Станового хребта столь же почти безлюдными, как соседняя Якутская область.
Наконец, у вас имеются в виде запасных земель остров Сахалин и полуостров Камчатка. На первый из них, как известно, теперь обращено особое внимание тюремной администрации, которая ежегодно отправляет туда значительные партии ссыльных, из которых, впрочем, говорят, около трети успевает спастись за-границу или умереть от лишений. Большего населения Сахалин содержать не может, ибо хлебопашество удается лишь в немногих местах, и его нужно заменять огородничеством и скотоводством; но за то обширные леса, залежи каменного угля и обильные рыбные ловли у берегов дают право надеяться, что при разумном хозяйничании население острова может стать очень зажиточным. Если мы, положив, что Сахалив будет так же густо населен, как теперь северная и средняя Шотландия, похожая на него природою, то он в состоянии будет содержать до миллиона душ. Что же касается до Камчатки, то, хотя её средние годовые температуры выше сахалинских, под теми же широтами, но распределение тепла по временам года столь не выгодно для земледелия, что на заселение этой страны, столь же обширной, как Италия, нет надежды, по крайней мере до тех пор, пока не явится надобность на всемирном рывке в произведениях её лесов и рыбных ловель, или пока не откроются в её почве значительные минеральные богатства, способные привлечь горнопромышленников.
Сводя теперь все изложенное относительно русско-азиатских владений, как запасной территории русского племени, мы можем с некоторою вероятностью сказать, что для народа русского тут найдется пригодных земель меньше, чем их есть в европейской России вашего времени. Шестьдесят – семьдесят миллионов душ прибыли противу теперешней цифры населения Кавказа, Туркестана, Сибири и Амурского края – и азиатская Россия будет переполнена жителями, т. е. должна будет получать свой хлеб извне, как теперь губернии петербургская, московская и все промежуточные. Это может, на первый взгляд, показаться странным, даже пессимистическим, преувеличенно-мрачным, но что же делать, если к этому приводят данные, которые трудно оспаривать? Притом, кажется, что собственно-горестного тут нет ничего. 85 + 65 = 150, а полтораста миллионов есть цифра достаточно почтенная, чтобы нация, которой числительность она выражает, была спокойна за свое историческое существование, даже если бы одновременно с нею развивались другие, соперничествующие и более многолюдные, богатые и могущественные народы. Конечно, в то время, когда Россия будет иметь 150 000 000 населения, т. е. лет через 60, англо-саксонское племя в Европе, Африке, Америке и Австралии размножится до цифры еще более значительной, особенно благодаря ассимиляции других европейцев, выселяющихся в Соединенные Штаты и в британские владения, конечно, развитию России много будут мешать поступательное движения немцев с запада и неурядицы азиатских народов, живущих вдоль южных пределов империи; не возможность занимать почетное место в истории у нас не отнята тем, что физико-географические условия вашей территории плохи. «Не o хлебе едином будет жив человек», повторим мы в свою очередь и напомним, что ум человека есть такая сила, которая во многом может уравновешивать невыгоды обитаемой человеком земли. Голландия – тому пример; да и не одна Голландия, а сама Россия, которая в течении какого-нибудь столетия выдвинулась на очень заметное место среди европейских наций. И чтобы с успехом продолжать это прогрессивное движение, средства не отняты у нас. Первым и самым главным представляется, конечно, звание законов природы и уменье прилагать их к производству таких предметов, которые были бы полезны, как для нас самих, так и для тех племен, которые обитают в странах, богатых от природы сырьем, особенно питательными продуктами. Пусть мы будем снабжать Бразилию или Зондский архипелаг железом, медью, машинами, оружием, а они нам станут высылать рис, кофе, сахар, хлопок: мы будем сыты и одеты, несмотря на скудость наших урожаев. Пусть Китай и Монголия обращаются к нам за выделанными кожами, за сукнами, за мехами, за обработанным деревом, а нам дают чай, скот, шерсть, шелк и т. п.: результат будет тот же. Пусть наши заводы и железные дороги начнут действовать исключительно русским каменным углем и сполна обрабатывать у себя дома русское сырье – и мы в состоянии будем жить не хуже шотландцев, шведов, датчан, немцев, быть может, даже англичан и французов. Весь вопрос в том, чтобы, изучив физические свойства стран, своей и чужих, сознательно наметить цель нашей умственной и промышленной деятельности и верно угадать те пути, которые ведут к этой разумной цели: тогда благосостояние наше будет обеспечено, а с ним обеспечены умственное развитие и всемирно-историческое значение. Здесь, разумеется, не место входить в указание этих путей и самой цели, однако, мы не может пройти молчанием некоторых сторон вопроса. Мы видели, что почва России никогда не может стать также производительною, как почва Франции, Англии, Бельгии, под теми же широтами; отсюда прямой вывод, что главною промышленностью России должна быть не обработка поверхности земли, а выработка её недр. И эти недра способны обогатить нас не одним золотом или серебром, а многими предметами, более их важными, как-то: топливом, т. е. согревателем наших жилищ и двигателем наших машин, железом и медью – материалами для этих машин, и пр. Пусть наши горные и технические училища дают нам не 100–120 техников в год, а 10–12 тысяч; пусть наша зажиточная интеллигенция, вместо траты времени и средств на изучение латинских супинов, риторики, палеографии, семитических литератур и теорий, учится химии, минералогии, геогнозии, механике и средства свои употребляет на разработку угля, железа, меди, на постройку заводов и фабрик, – она не только обогатит себя умственно и вещественно, но и обеспечить успех своих отдаленных потомков в трудной борьбе народов за историческое существование. Математика, физика, естественная история притом разовьют умственные способности наши лучше, чем запоминание звонких фраз Цицерона и усвоение бессмысленных бредней мистицизма, являющихся под видом-ли метафизики или под рубрикою «морали».[14] Человек, владеющий знанием природы, – и только он один – есть та сила, пред которою все склоняется. Его взор дальновиден, его энергия всегда разумно направлена. Он не бродит в потемках, отыскивая цель жизни и наилучшие средства для её достижения; он не служит рабочим скотом для других людей, более сведущих и богатых средствами; он – действительный homo sapiens и всевластный naturae rex.



