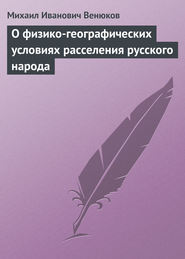 Полная версия
Полная версияО физико-географических условиях расселения русского народа

Михаил Венюков
О физико-географических условиях расселения русского народа
I
По мере того, как естествознание расширяет круг своих изысканий, влияние его все глубже и глубже проникает в жизнь современных человеческих обществ. И это не только в сфере материальных приложений механики, физики и химии, как, напр., в железных дорогах, телеграфах, красильном искусстве, но и в области самых высоких соображений о судьбах всего человечества. Лучшие умы, передовые люди нашего времени, и даже те из них, которые по складу понятий наклонны к отвлеченностям, мало-помалу отказываются от иной основы для своих теорий, выводов и самой практической деятельности, как та почва, которую доставляет изучение природы. Наиболее смелые идут дальше и прямо говорят, что вся история человеческого рода, в которой еще недавно большинство видело чуть не исключительно сферу проявления свободной воли человека и людских страстей, а иногда мистического предопределения и фатализма, что эта история есть не более, как продолжение истории животного царства, которой главные черты, совершенно независимые от человеческой воли, намечены вперед и вполне согласны с законами геологии, палеонтологии, зоологии и физиологии. Идеалисты-метафизики, люди горячего воображения и сердца, но не критического ума, борются против этой теории, стараются даже найти для себя точку опоры не в одних преданиях, не в одних старых авторитетах, но из самом естествознании, толкуемом ими по своему (вспомним геолога Де-ли-Беча), но шаг за шагом твердая почва из-под них исчезает, и они должны бывают или оставаться на воздухе, в пустоте отвлеченностей (напр. Гартман), или склонить свою, несколько спесивую, выю перед неотразимостью доводов их противников.[1]
В числе вопросов, на решении которых особенно отразилось это современное направление науки и жизни, одним из наиболее крупных является вопрос о размножении и вырождении рас, видов, родов и даже целых семейств растительного и животного царств. Палеонтология совершенно точно, с неотразимою ясностью доказала, что для каждого рода и вида, для каждого племени имеются свои периоды возрастания и упадка, свои эпохи появления на земле и исчезновения с неё. Сигилларии и древовидные хвощи, очень мелкие нуммулиты и огромные дипотерии и мамонты, плезиоазвры и дронты являлись постепенно на земной суше, в водах или в воздухе, распложались увеличивались в числе и объеме, а потом мало-помалу мельчали, становились реже и наконец исчезали совсем. На место их нарождались и размножались другие существа, иногда сходственных типов, иногда весьма отдаленных. Рыбы, бывшие изобильными в девонскую эпоху, заменились гадами в юрскую и млекопитающими в период новейших наносов. Водоросли, хвощи и папоротники переходных образований заменены в наше время растениями двудольными, которые ботаника признает совершеннейшими по устройству и которые вовсе не были известны в силлурийский период. Человек, в западной Европе, стал на место гиен, пещерных медведей, северных оленей и пр., бывших очень обильными, напр., во Франции, Швейцарии и Бельгии в первое время появления там человеческих организмов. Вырождение этих животных, под влиянием перемен в строении почвы и в климате и борьбы между собою и с людьми, можно следить уже в исторические времена[2], и эти наблюдения еще раз несомненно подтверждают, что для каждого органического типа, растительного или животного, есть свои эпохи появления, размножения упадка и исчезания.
Учение Дарвина о родовом подборе и о борьбе за существование, из которой победителями всюду выходят сильнейшие, т. е. наилучше развитые типы, внесло свет в ту огромную массу данных, из которых извлечен эмпирический закон замены одних типов другими, с искоренением первых. Оно показало, что иначе и быть не может в мире организмов, для размножения которых природа поставила пределы, с одной стороны, в ограниченности протяжения земной суши, а с другой, в количестве солнечных тепла и света, которые суть настоящие возбудители и двигатели органической жизни на нашей планете и которых годовое количество есть величина постоянная для всего земного шара, хотя и колеблющаяся около известных средних величин для каждой отдельной местности. Как. только на земле появляются организмы более сильные, более приспособленные к среде, чем прежде существовавшие их сородичи, так последние начинают склоняться к упадку, потому что средства существования, которые обеспечивали их жизнь, захватываются другими, сильнейшими, а новых земля произвести не может. Усилиями естествоиспытателей средства эти исчислены и изучены с большею или меньшею подробностью, и мы можем теперь без большего труда определять вперед, чего можно ожидать, напр., от растительности страны, которая лежит под такими-то параллелями, в таком-то расстоянии от берегов океана, на такой-то средней высоте над его уровнем и имеет такую-то почву. А затем растительною природою страны определяется уже состав её животного царства, которое питается растительными продуктами. Так, не быв вовсе на Амуре, можно было предсказать, что бассейн этой реки, особенно вблизи Японского моря, имеет климат холодно-влажный, что тамошния реки многоводны и, следовательно, богаты рыбою, что почва там покрыта лесами и что, следовательно, там должно быть изобилие пушных зверей, водяных птиц и т. п. Для подобного предсказаний не нужно даже подробно изучать трактаты Декандоля, Гризебаха и Уоллеса о географии растений и животных, а достаточно быть знакомым с учебником земной физики.
Но это еще не все. Зная географическое положение места, его средние температуры, годовую и месячные, количество влажности в воздухе и господствующее направление ветров, можно безошибочно сказать, на сколько оно удобно для жительства людей. Тот, кто бы, напр., вздумал уверять, что страны на юг от Алжира, Туниса и Триполи или на восток от Каспийского моря могут вмещать в себе многочисленное и оседлое население, мог бы без труда быть опровергнут простым перечислением невыгодных физико-географических условий этих местностей. Естествоиспытатель сказал бы ему, что если средняя годовая температура Сахары выше, чем, напр., Ломбардии, то крайности наибольшей и наименьший теплоты, вредные для большей части организмов, в ней гораздо чувствительнее, чем в долине По, а атмосферное орошение совершенно ничтожно, так что никакая древесная растительность там невозможна, а травяная может существовать только в течении очень короткого периода дождей, да и то лишь в долинах, где влага скопляется с соседних высот и где её испарение от ветров замедляется присутствием тех же высот. Напротив, не нужно ездить на Зондские острова, чтобы представить себе, что в этом архипелаге почва должна быть покрыта богатейшею растительностью, преимущественно древесною, что климат его – влажно-жаркий, с редким постоянством температуры по временам года и даже по часам дня, что при роскошной флоре там должна быть и богатая фауна и что, следовательно, человеку там легко питаться и вообще жить без большего труда.
Как скоро мы стали на эту точку зрения на условия географического распространения людей, так, независимо даже от увлекательных теорий таких великих учителей, как Бэр, Риттер, Бокль и пр., перед вами с совершенною ясностью становится положение, что в этом распределении гораздо сильнее дает себя чувствовать физическая природа страны, чем свободная воля человека, хотя бы вооруженного всеми орудиями современной цивилизации. Напрасно, например, было бы мечтать о заселении северной Сибири или закаспийских степей оседлыми земледельцами; напрасно думать, что на прибрежьях Охотского моря может процветать что либо, кроме звериной и рыбной ловли и лесных промыслов. Неорганическая природа, конечно, не зависят от климатов, и где-нибудь на верховьях Маи или Уды могут быть отысканы россыпи золота, способные привлечь немало людей; но с истощением металла окрестная страна должна опять обратиться в местную пустыню.
Эту зависимость между физико-географическими условиями страны и возможностью заселения её людьми не трудно выразить некоторыми цифрами, хотя нельзя не признаться, что они относятся к вопросу несколько косвенно, так как вообще география животных организмов доселе почти вовсе не имеет численных данных. По закону Девандоля для созревания сама-то неприхотливого хлебного злака, ячменя, нужно, чтобы развивающееся зерно получило в сумме около 1750° Ц. тепла за все время развития и чтобы притом это тепло никогда не было менее 0°: иначе всходы, цветы или плоды погибнут от холода. Для яровой пшеницы нужны: до 2100° тепла, средняя температура периода созревания от 15 до 20° Ц., а наименьшая до 3–4° Ц. Кукуруза требует 2.600° тепла и средней температуры периода созревания в 20° Ц. и т. д. Отсюда ясно, что если какое-либо человеческое племя привыкло питаться одним из этих хлебов и думает переселиться в страну, где он не может созревать, то оно не найдет привычных для себя условий жизни и должно будет изменить привычки и потребности и даже может вовсе изнемочь в борьбе с недостатком нужных ему условий, т. е. уменьшиться в числе или и совсем выродиться. Конечно, человеческий организм гибок; он иногда очень легко заменяет одну пищу другою. Но если эта последняя не доставляет ему прежних количеств азотистых и без азотных веществ, то самый организм изменяется, начинает худеть, истощаться, порода распложается медленнее прежнего, подвергается частым болезням и затем вымиранию. Мы можем сказать, что, в общем итоге, для современного европейца страна с 0° годовой средней температуры и с таким летом, которое не дает возможности созревать хоть одному из европейских зерновых хлебов, есть страна неудобная для жизни. И в самом деде, взяв дли сравнения две карты, этнографическую и годовых изотермов, мы увидим, что лишь в немногих местностях европейская жизнь устроилась за нулевою линией, а где и перешли ее к северу, то там наверное лето столь же тепло, как где-нибудь в Париже или хотя в Москве, Иркутске, Барнауле, Нерчинске находятся именно в этих последних условиях[3]. Но за то в южной половине Камчатки европейская культура невозможна, хотя там, именно в Петропавловске (53° шир.), средняя годовая температура выше нуля (+2°3 Ц.). Летом этой стране недостает тепла, нужного для созревания хлебных злаков (ср. лет. т. = 43,4° Ц.), и чтобы европеец мог жить в Камчатке, нужно для него предмет первейшей необходимости, хлеб, подвозить издалека.
Понимание всех этих явлений и взаимной их связи, если не научное, то наглядное, извлеченное из опыта, издавна. усвоено всеми сколько-нибудь развитыми человеческими племенами, и оно-то влекло я влечет постоянно наиболее сильные из них в захвату земель с возможно выгодными географическими, т. е. почвенными и метеорологическими условиями. Те поколения, которые успели прочно утвердиться на выгодных местах земной суши и развились физически и умственно лучше других, те и заручились всем нужным, чтобы оттеснит или даже стереть в лица земли племена менее удачливые. Европейские народы в этом случае особенно счастливы. Они занимают издавна одну из лучших частей земной поверхности, богато орошенную реками и глубоко врезавшимися морскими заливами, самую теплую из всех, лежащих с ней под одними широтами, наилучше увлажаемую дождями, от крайностей холода и жара, парализующих деятельность человеческого организма, и, наконец, находившуюся в средине континентального полушария нашей планеты. У европейцев есть все: и плодородная почва, и легкость обмена её произведений по дешевым естественным путям, и температура, не мешающая сильному физическому и умственному труду в течение круглого года. Этим без сомнения определилось и превосходство европейской расы над прочими, превосходство, которое современною антропологией признано окончательно, не смотря на то, что еще в 1840-х годах А. Гумбольд признавал все человеческие племена «одинаково» благородными и противился разделению их на высшие и низшие.
Но физико-географические условия различны в разных частях Европы, а с ними неодинаково и физиологическое развитие разных частей европейского населения. Легче всего было людям размножиться и получить досуг от чисто физических трудов, а затем разумно установить общественные князи на берегах Средиземного моря: там действительно и родились европейские образованность и гражданственность. Но для преуспеяния уже развитой, физически и умственно, породы людей наиболее выгодные условия представляет Великобритания. Англичане живут на острове, недоступном для частых вторжений с материка, и вот они уже 800 лет не знают разорений от нашествий внешних врагов и от содержания больших постоянных армий, тогда как население континентальной Европы страдает от войн приблизительно в каждые десять лет раз, при чик, разумеется, воюющие стороны и особенно театр войны разоряются. Острова Британские лежат среди океана, но не вдалеке от богатейших стран западной Европы, и вот англичане имеют легкое средство сделаться торговцами, т. е. отдаться промыслу наиболее выгодному. Климат Англии таков, что зима и лето там различаются мало и притом средние годовые температуры напоминают южную часть европейской России, от параллели Киева[4]. В атмосферном орошении недостатка нет. В заключение всего, почва богата каменным углем, который дает дешевого двигателя для всякого рода машин, увеличивающих производительность человеческого труда. Оттого мы видим, что англичане – самая развитая, передовая раса в Европе, и физически, и умственно. Средний рост англичанина больше такового же, напр., у француза на два вершка, а вес английского мозга больше французского на 18 золотников.
За англичанами, по физической крепости и количеству головного мозга, следуют другие народы германского племени: голландцы, датчане, шведы, собственно немцы. Только у всех этих племен, как, впрочем, и у англичан низших классов, если рост тела и даже абсолютный вес мозгового вещества несколько выше, чем у большинства романских народов, напр. французов и итальянцев, то процентное отношение количества мозга в весу целого тела ниже, чем у среднего человека романской расы. Причина понятна. Романские народы с гораздо более давнего времени трудятся в умственной сфере, чем народы германские. Сама Германия начала широкую умственную жизнь лишь с XVI столетия, т. е. со времени реформации, и во всяком случае не ранее Карла Великого, т. е. IX века; между тем, как во Франции и Испании римская цивилизация (не говоря уже о финикийской) была привита до Рождества Христова, а в самой Италии греческая образованность была известна еще восемью-девятью веками ранее. Французы и итальянцы успели за время своей исторической деятельности ослабеть физически, измельчать, главным образом от многочисленных войн, истреблявших цвет мужского населения; но развитие мозга поддерживалось у них почти непрерывно, и оттого романские нации были первыми, у которых, после средневекового застоя, проявилось широкое умственное движение в XV и даже в XIV столетиях.
Ниже и германцев, и романских народов, естественно, стоят славяне, которых территория не пользуется теми же удобствами, как земли, занятые западо-европейскими нациями. И как русский народ даже между славянами поставлен в наименее выгодные условия, то мы и остановимся здесь с некоторою подробностью над изучением этих условий. Справедливо говорит Реклю в недавно появившейся «Географии России», что страна эта в физико-географическом смысле занимает не столько восток, сколько север Европы. Многие части её, по условиям температуры, как бы лежать на 10, 12 и даже 15 градусов севернее соответственных по широте приатлантических стран. Так, напр., в Норвегии, в Бергене, почти под 61° ш. средняя годовая температура равна 6,1° Ц, а в России, чтобы найти такую же, нужно спуститься до Сарепты, т. е. до 48,5 шир. Каковы же последствия этого? А таковы, что в России, даже только европейской, не говоря уже про Сибирь, почва, при одинаковом химическом составе с западно-европейскою, может, под теми же параллелями, производить лишь небольшую часть того, что производит, напр., почва Англии или Франции.
Чтобы лучше убедиться в этом, остановимся на некоторых частных данных физической географии. России, при чем взглянем и на другие элементы русской климатологии, кроме тепла. Весь юго-восток европейской части империи, от Кагула, Елизаветграда, Харькова, Саратова и Бузулука до морей Черного, Азовского и Каспийского и до подошвы Кавказа, т. е. площадь в 12-ть квадратных миль, представляет степь или страну, вовсе лишенную леса, а местами даже и воды. Если бы не таяние зимних снегов, то, вероятно, что почва значительной части этих местностей была бы и вовсе непригодна не только для оседлой, но даже для кочевой жизни людей, потому что летом орошение её почти ничтожно, особенно на востоке, вблизи Урала[5]. Чтобы развести здесь леса, нужно сделать огромные усилия, да и те не будут бесплодны лишь в черноморском бассейне, но едва ли в Каспийском[6]. Между тем, без леса оседлая, цивилизованная жизнь почти невозможна, особенно если еще при этом для замены его, как строевого материала, нет камня, а как топлива – минерального угля. Вспомним, что для отопления почти всей степной полосы России употребляются ныне солома, лузга и даже сухой навоз (кизяк), т. е. что у почвы безвозвратно отнимается то, что должно быть отдаваемо ей для подержания плодородия!.. Вот почему мы должны признать, что 12,000 квадратных мил, т. е. восьмая часть европейской России, едва ли когда в состоянии будет сравняться по удобствам для человеческой жизни с соответственными по широтам местностями западной Европы[7]. Однолетние растения, напр., пшеница, просо, овес, подсолнечники, арбузы, могут тут прозябать успешно, но и они подвергаются слишком большим случайностям от засух. Таким образом, мы должны сложить со счета вполне удобных для цивилизованной жизни земель около 13 % европейской России даже из числа тех, которых средняя температура далеко выше нуля. На этих 12,000 милях привлекать в себе оседлое населении могут только узкие долины рек и прибрежья морей.
О севере, кажется, нечего и говорить. Проведя линию от Васы через Петрозаводск, Устюг Великий и Чердынь, мы отрежем в стороне Ледовитого океана страну в 20000 квадратных географических миль, которая самою природою назначена лишь для полудиких звероловов и рыболовов и в которой цивилизованный человек может жить только по нужде или в видах эксплуатации местных бедняков. Единственное богатство этих мест – леса; но с увеличением населения в западной Европе, куда вывоз дерева и других лесных продуктов нетруден, леса эти довольно быстро исчезают, а с ними исчезают и звери. Край, поэтому, не имеет исторической будущности, и население его всегда будет кормиться на счет избытков хлебе в средней России, а с уменьшением их начнет убывать в числе, или, по крайней мере, остановится на одной, очень скромной цифре, недалекой от современной: 950.000 душ, т. е. по 47 человек на 1 квадратную милю. Единственное исключение могли бы составить поморяне, для которых открыт океан, с его торговым и промысловым движением; но эти бедные люди уже оттеснены от своих естественных путей к обогащению конкуренции соседних норвежцев и других народов северо-запада Европы, поставленных в более выгодные физико-географические условия.
И так, в распоряжении истории русского народа остаются в Европе лишь 60.000 кв. миль средней России, Малороссии, Белоруссии и прибалтийских местностей, а с присоединением сюда черноморской части степной полосы, от устья Дуная до верховьев Кубани, – около 65.000 кн. миль. Конечно, это пространство огромно; оно превосходит всю западную Европу, без Скандинавии и островов, и, стало быть, дает возможность русскому народу стать на весьма высокое место в ряду европейских наций; но мы не должны заблуждаться на счет значения цифры квадратных миль. «Земля наша велика, но не обильна», или, по крайней мере, недовольно удобна, можем мы сказать, перефразируя выражение, приписанное Нестором новгородским послам. И вот в чем состоят неудобства и практические последствия их.
Прежде всего, мы должны заметить, что все население европейской России обязано иметь одежду двух разрядов: зимнюю и летнюю. Резкости температур июля и января так велики, что англичанин, напр., даже не может представить их себе[8]. Он, привыкший ходить зиму и лето почти в той же самой одежде, удивляется, что в Москве, Киеве и даже Одессе люди носят шубы зимою и белые кителя и рубашки летом. Как человек практический, он тотчас исчисляет расходы на этот двойной комплект одежды и естественно видит, что его родина в этом случае счастливее России. А те из англичан, которые знакомы с наукою, видят еще, что, благодаря резкостям русского климата, и другие гигиенические условия жизни в России очень неблагоприятны, так что смертность в ней неизбежно долила быть сильнее, чем где-нибудь в западной Европе. Я действительно, развернув статистические таблицы, мы видим, что в Англии из 1000 солдат, т. е. людей крепкого возраста, умирает в год лишь 9-10, а у нас в казанском военном округе около 40. Мы не берем уже для сравнения еще более невыгодные цифры населения, вообще там разница просто поразительна; но, быть может, она происходит отчасти от несовершенства русской гражданской статистики.
То же, что здесь сказано относительно зависимости от климатических условий характера одежды, может быть повторено и на счет устройства и содержания жилищ. Зимние холода требуют зданий особенно прочных, с двойными дверями и рамами и с большим числом объемистых печей: для поддержания теплоты в жилищах необходимо тратить огромное количество топлива; для освежения воздуха в покоях нужна хорошая система искусственного проветривания, так как невозможно допустить открывания окон на улицу, которое служит для этой цели не только в Италии, но во Франции и даже Англии. Так как удовлетворить этим требованиям гигиены трудно без больших издержек, то последствием является крайняя неприспособленность большей части русских жилищ в климату, а затем страшная болезненность и смертность между людьми, о которой мы сейчас упомянули. К довершению неудобств, в большей части России вовсе нет камня, который бы мог служить для сооружения прочных и долговечных домов, а приходится последние строить из дерева, которое легко гниет, а еще чаще истребляется пожарами, нигде так не опустошающими страну, как у нас. Чтобы понять, какую разницу в экономических условиях жизни целых поколений делает эта необходимость строить дома деревянные, напомним, что, по соображениям Гакстгаузена, вся сельская Россия перестраивается, средним числом, раз в 30 лет, между тем, как во Франция, Швейцарии, Италии можно сплошь и рядом найти не только у богатых землевладельцев, но и у бедных крестьян дома, сооруженные 200–300 лет назад и совершенно годные для жительства в настоящее время. Потребность в топливе приводят и уже привела в большей части европейской России к истреблению лесов, а какое влияние имеет это обезлесение страны не только на дороговизну дерева, но и на невыгодное изменение климата, иссушение почвы, обмеление рек и т. д., о том уже более столетия заявляет наука в лице таких авторитетных представителей, как Паллас, Кеппен, князь Васильчиков и др.
Третье невыгодное для русского народа обстоятельство, вытекающее из континентальных свойств климата страны, это сравнительная малость количества питательных произведений почвы. Целые полгода или, чтобы быть точнее, от 5 до 7 месяцев, земля у нас не производит ничего, оставаясь покрытою снегом между тем, напр., в окрестностях. Парижа и Лондона свежие овощи не переводятся крупный год, а в более южных частях западной Европы удается собирать и с полей по две жатвы. И какие бы усилия не употреблял русский человек для обработки родного поля, сколько бы удобрения ни клал на него, он никогда не достигнет средних урожаев равных не только ломбардским, но даже нормандским. Его десятина, равная 1,07 гектара, может дать ему случайно, в одно лето, не менее продуктов, чем, средний французский гектар; но возьмем 5–6 лет сряду, и, в результате получится отношение 1:3 или, до крайней мере, 1:2,5 в пользу Франции, где земля остается непроизводительною лишь с ноября по конец февраля и редко до половины марта н. ст.
Мало того, краткость лета в России приводит еще к тому, что на это время года, т. е. на 5½ месяца, в апреля по сентябрь, выпадают всевозможеные полевые роботы, тогда как во Франции, Англии, Венгрии, Румынии, не говоря уже про Италию, можно пахать поля в феврале, а виноград убирать в конце октября. Труд селянина там разделен на восемь месяцев, т. е. на время в полтора раза большее, чем у вас. А это обстоятельство позволяет, напр., французскому крестьянину быть исключительно земледельцем, работать не торопясь, тщательно, и не отвлекаться уже другими занятиями, в которых он не силен и для производства которых нужно либо самому иметь особые орудия, либо ходить каждую зиму на сторону, во временную кабалу к заводчику либо торговцу, которые, разумеется, дают за работу лишь ровно столько, чтобы работник не умер с голода[9].



