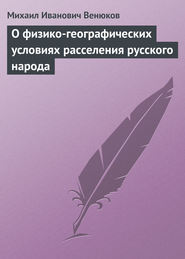 Полная версия
Полная версияО физико-географических условиях расселения русского народа
Пагубные для растительной жизни засухи, как известно, нигде, в целой Европе, не случаются так часто, как у нас, и они зависят опять от таких физико-географических условий нашей родины, с которыми бороться трудно, чтоб не сказать невозможно. Если бы за Уралом расстилался не обширный материк, а океан, Россия была бы одною из благодатнейших стран умеренного пояса и напоминала бы Соединенные Штаты или хот Амурский бассейн, с Маньчжуриею и частью Кореи. Но за Уралом тянется огромная площадь земель пустынных то от крайнего холода, то от чрезвычайной сухости, доходящей до 0,13 водяных паров в атмосфере, тогда как западная Европа имеет их от 0,60 до; 0,85. С этих сухих и холодных зауральских пустынь воздух, повинуясь общим законам земной физики, движется к юго-западу, в более теплые при-атлантические страны и, проходя над русскою землею, не только охлаждает, но и иссушает её почву. Академик Веселовский очертил полосу, где восточные ветры являются в европейской России господствующими. Его указания, за малыми разве, чисто местными исключениями, несомненно точны, обоснованы на более или менее продолжительных наблюдениях, и его карта ветров показывает, что под иссушающим влиянием Азии находится около одной трети страны. При этом названная треть – лучшая по географическому своему положению на юге, а не на севере. В состав её входят не только астраханская и заволжские губернии, но и ставропольская, саратовская, области: терская, кубанская, донская, губерния: воронежская, харьковская, екатеринославская, таврическая, херсонская, отчасти тамбовская, курская, полтавская, киевская, подольская и бессарабская. Если бы на поверхность этих провинций падало в год 5–6 дюймов воды более нынешнего, или даже если бы атмосфера их только содержала на 20–30 % более влажности, чем теперь, – какую бы благодатную страну представляли они! А теперь местный русский крестьянин и даже крупный землевладелец, имеющий средства хорошо удобрять землю и косить в степях огромное количество сена, часто (приблизительно в 4 года раз) не успевает, благодаря засухам, собрать посеянного зерна или наносить травы, нужной, чтобы прокормить скот до следующей весны. Одной зимы бывает достаточно, чтобы весь этот скот вымер с голоду или был продав за бесценок, после чего все хозяйство приходит в упадок. Засухи вообще – главный бич юга-восточной России, и она от них не избавится до тех пор, пока не решится на великий технический подвиг, сходный с прорытием Суэцкого канала и противоположный тому, который сделали голландцы, выкачав воду из Гарлемского озера. Мы уже намекали на сущность этого подвига: нужно избыток воды в Черном и Азовском морях, уходящий через проливы: Керченский, Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, повернуть на восток, в Каспийское. Но когда это будет, и будет ли вообще? Конечно, водораздел в 17 сажень над морем, существующий между Манычем и Кумою, не великая гора, срыть ее можно, равно как углубить до нужной степени русла обеих рек; не где необходимые для работ денежные средства, где, наконец, прочное сознание людьми влиятельными пользы самого предприятия? Мы начали осушать Полесье и долину Кубани; но обводнить какую-либо местность у нас еще никто не решался. Мало того, самая мысль о прорытии кумо-манычского канала, основанная на фактах, добытых Бергштретером, Блюмом, Данивым и др., подвергалась насмешкам в некоторых даже soi-disant ученых кругах….
Мы коснулись, таким образом, важнейших постоянных явлений, совершающихся в воздухе, который покрывает европейскую Россию, явлений, которые имеют огромные влияние на развитие органической жизни в стране, а следовательно, и на быт человека. Мы видим, что все главные метеорологические условия жизни в России менее выгодны, чем в западной Европе. Но не одни эти условия влияют на судьбы человеческих обществ, занимающих ту или другую часть земной суши. В ним присоединяется иного других влияний, чисто топографических и способных то усиливать значение климата для исторической жизни народов, то ослаблять и видоизменять его. Знаменитый основатель сравнительной географии, Б. Риттер, с рассмотрения этих-то именно топографических условий и начал построение своей науки. Африка, заметил он, лежит под самыми благодатными широтами, но, тем не менее, есть самая неудобная для человеческого развития часть света, потому что доступ в глубь её труден от недостатка глубоко-вдающихся в материк. морских заливов. её береговая линия относится в её поверхностному протяжению в милях как 1 к 106, т.-е., в ней на одну милю берега приходится не менее 113 кн. миль пространства, тогда как в Европе это отношение равно 1:37, что втрое выгоднее. Если взглянуть с этой точки зрения на европейскую Россию, то получится отношение очень недалекое от африканского, именно 1:101. И притом, каковы моря, окружающие Россию? Северный океан с Белым морем и другими заливами открыт для мореплавания не более 135 дней в году, Балтика, в среднем выводе, около семи месяцев, Каспий – девять, и только южная его часть. и Черное море, да и то последнее не повсеместно, остаются открытыми круглый год. Балтийское море при этом отрезало от океана проливами, находящимися в рунах чужеземцев, Черное – также, а Каспийское есть внутреннее озеро, которое ведет лишь в разоренную Персию и в совершенно пустынную Туркмению. Таким образом, моря русские почти вовсе не облегчают вступление русского народа на всемирно-историческое поприще, торговое и политическое. Напротив, благодаря несчастливому их положению, Россия постоянно находится и, вероятно, еще долго будет находиться в зависимости от произвола морских наций. С другой стороны, её сухопутные границы совершенно открыты для вторжения неприятелей с запада и с востока, и неприятели этим воспользовались. На западе, вот уже девять веков сряду, с неотразимою последовательностью оттесняет или даже заливает единокровные русскому народу славянские племена волна германизма; с востока Русь была в течение многих столетий, опустошаема печенегами, половцами, хазарами и монголо-татарами, из которых последние владели русской землею 240 лет и своим владычеством наложили на русский народ доселе не вполне еще изглаженные следы азиатских обычаев и порядков.
К важным территориальным невыгодам европейской России принадлежит очертание её речных бассейнов: 38 000 кв. г. миль, т.-е. более 40 % всей поверхности страны, принадлежат в водоему Каспийского моря, т. е., выражаясь несколько тривиально, мешка, из которого нет выхода никуда, кроме Туркмении и северной Персии. 20 000 кв. миль принадлежат в бассейну Ледовитого океана и, наконец, бассейны двух больших рек западной части империи, именно Вислы и Немана (в совокупности около 4500 кв. миль), важнейшими своими частями, т. е. устьями этих рек, принадлежат Пруссии. Таким образом, речная система России далеко не имеет той политической и экономической важности, как, напр., реки Германии, Англии и Франции. Прибавим сюда 1) что на всех русских реках судоходство прекращается на 4,5, иногда даже 8 месяцев, и 2) что реки эти, вследствие сухости климата, далеко не так многоводны, как, напр., французские, равной с ними длины. В настоящее время, конечно, речные сообщения начинают утрачивать часть той абсолютной важности, которую они имели до введения железных дорог; однако, на одной Волге с её притоками работает около 450 пароходов, и эти пароходы, заметим, должны; целых пять месяцев в году стоять без употребления, замерзшими во льду, чрез что, разумеется, владельцы их теряют часть дохода и для вознаграждения себя должны бывают летом назначать провозные цены несоразмерно большие, к невыгоде проезжающих и товароотправителей, т. е. всего населения страны.
Почти все русские реки (за исключением Невы) отличаются широкими и продолжительными весенними разливами, как следствием обильных зимних снегов и слабого ската почвы к стороне морей. Во всей Европе подобные разливы считаются несчастием, ибо уничтожают плоды многих человеческих трудов в речных заливах. У нас, наоборот, большим разливам радуются, как гарантии обильных сборов сена на заливных лугах. Мало просвещенный народ не понимает, что, таким образом, лучшие, производительнейшие части почвы завсегда обречены быть бесполезными для высшей культуры: садоводства, огородничества, хлебопашества, травосеяния. Но люди образованный не могут не знать истинной цены этому «благодеянию» природы, которое сближает Россию с Африкой и среднею Азией, где без разливов, как известно, настает голод. Регулировать эти разливы помощью канализации долин, которая бы, не лишая их весеннего оплодотворения почвы, спасала от размывания, конечно, можно, но кто сочтет миллиарды рублей, которые нужны для этого, и откуда будут взяты эти миллиарды? В последние тридцать лет Россия несомненно сделала огромные экономические успехи, но к национальному богатству её прибавились не одни величины положительные, а и значительная отрицательная величина в 3 500 000 000 рублей государственного долга на крымскую и турецкую войны, на завоевание не покрывших пока доходов Кавказа и Туркестана, на выдачу денег концессионерам и др.
От рек, орошающих почву, перейдем к самой почве. Природа в этом отношении щедрее к нам, чем ко многим другим европейским народам. В России почти нет горных вершин и скатов, негодных к обработке или каменистости или крутизне, можно пахать и сеять почти везде, а где и нельзя устоять волей, там можно сажать деревья или кустарники. Кроме того в пределах европейской России находится обширная площадь чернозема, лучшей в мире почвы, для образования которой нужны были тысячелетия растительной жизни в стране. Эта черноземная полоса тянется от берегов Прута до Вятки и Белой и от Кременца, Киева, Орла, Тулы и Ядрина до Азовского моря, Эльборуса, Ергеней, Волги, Иргиза и Общего Сырта, т. е. занимает около 28 000 кн. миль. Отдельные клочки её встречаются в губерниях владимирской, костромской и даже архангельской. Если бы можно было поручиться, что чернозем сохранится в целости навсегда, то; мы могли бы спокойно смотреть на будущность весьма далекого потомства, но в действительности этого быть не может. Чернозем истощается уже потому, что мы огромное количество растительных продуктов отсылаем за-границу, а значительную часть удобрения, которое необходимо для восстановления израсходованных органических элементов или спускаем в русла оврагов и рек или, что еще хуже, сжигаем в виде соломы, лузги и кизяка. Известный химик-земледелец, Энгельгардт, справедливо пророчит нам незавидную экономическую будущность при такой системе хозяйства. Но система эта по большей части не зависит от нашей воли, а истекает из физико-географических условий страны. Мы уже сказали, что кизяк и солому у нас жгут во многих местах, потому что нет другого топлива; а что до вывоза зерна во Францию, Англию, Германию и пр., то чем же иным можем мы расплачиваться за те капиталы, которые к нам притекают оттуда в виде ли денег или в виде заводских произведений? Своих фабрик, кроме винных заводов, мы не завели в достаточном количестве, даже лен и коноплю мы отправляем в Англию, Голландию и Бельгию в сыром виде, шерсть тоже, и т. д. Поэтому не должны мы и удивляться, что система нашего хозяйства разрушает в корне наше же собственное благосостояние. Об этом можно жалеть, можно заботиться о приискании средств устранить зло в будущем, напр., чрез изучение, вместо мертвых языков, химии и технологии и чрез приложение их к делу, но удивляться злу, уже существующему, – нельзя….
Сказав, что было естественно сказать в нашем очерке о значении чернозема в экономической жизни русского народа, мы не должны упускать из виду и других разрядов почвы, встречающихся в европейской России. Здесь на первом плане стоят пески при-каспийских равнин, Полесья и огромного числа местностей в северной и средней России. Когда пески эти орошаются достаточным количеством дождей, а подпочва их состоит из глины, тогда на них образуются болота, обыкновенно покрытые лесом. Это отнимает у культуры вероятно 5–6 тысяч квадратных миль, быть может и более. Но такая потеря, сравнительно говоря, еще небольшое зло, потому что лес, растущий на песчаной почве, представляет значительную ценность, особенно если его легко вывозить по сплавным и судоходным рекам. Канализация Полесья в этом случае может многое сделать для поднятия экономического уровня страны, особенно если приобретенный при этом опыт будет с пользою приложен в других песчано-болотистых местностях. Но извлечь какую-нибудь пользу из песков, не орошаемых дождями и потому не покрытых растительностью, дело трудное, чтоб не сказать невозможное, а таких песков не мало в губерниях астраханской и ставропольской, в областях уральской и терской. И они составляют не только бесполезную, но даже вредную часть русской территории, во 1-х, потому что затрудняют устройство хороших дорог между плодородными и населенными местностями, и во 2-х, потому что, будучи переносимы ветрами, они постепенно засыпают земли возделанные и обращают их в пустыни. Итак такое поступательное движение песков не обещает ничего хорошего в будущем, то необходимо принять против него меры, именно: развести леса по окраинам песчаных степей (если это возможно) или, еще лучше, затопить эти, вообще низкие степи водами расширенного Каспийского моря.
За песками следуют супеси и суглинки, расстилающиеся по большей части северной и средней России. Это те почвы, которые дают, в нашем климате и при нашем скудном удобрении, урожая сам 2–3 и которые по этому не обеспечивают существования сколько-нибудь густого населения чисто сельского. Владея подобною землею, крестьянин неизбежно должен заботиться о снискании себе средств в жизни помощью каких-нибудь ремесел, направленных в возвышению ценности добываемого им сырья. И действительно, мы видим, что в провинциях, занятых супесями и суглинками, исстари возникли разные промыслы, частью местные, а частью отхожие. На сколько это обстоятельство отзывается на образе жизни русского народа в губерниях московской, тверской, новгородской, ярославской, владимирской, костромской, нижегородской и проч., мы полагаем, известно каждому. И едва ли не супесям и суглинкам с их урожаями сам 2–3 Россия больше всего обязана образованием тех колоний на востоке, которые мало-помалу сделали ее владычицею Вятки, Перми, Урала и всей Сибири. Заметим, что те же супеси в северной Германии прогоняют ежегодно часть её населения за океан.
От взгляда на состав поверхностного слоя почвы, того, который производит растительные богатства страны, перейдем к очерку подземных слоев с их богатствами минеральными. Огромное протяжение осадочных формаций во всей России, за исключением Финляндии, Урала, части Олонецкого края и полосы между Днепром и Бугом, служит причиною, что добыча металлов возможна у нас только на дальнем востоке или на пустынном северо-западе страны, за сотни и даже тысячи верст от местностей, где скопилось население. Небольшие добычи железа в рязанской, екатеринославской и др. губерниях не стоит принимать в расчет. А между тем, без широкого распространения металлов в домашнем обиходе немыслима сколько-нибуд удовлетворительная экономическая жизнь нации. Колеса без шин, полозья без подрезов, двери и окна без железных замков и петель, печи без чугунных заслонов и даже вьюшек, недостаток рабочих инструментов во всех отраслях ремесленной деятельности – вот последствия этой скудости металлов в России[10], не говоря уже про то, что она не могла и думать об устройстве у себя железных дорог без привоза иностранных рельсов, локомотивов и проч. Про другие металлы – медь, свинец, цинк, олово, ртуть, необходимые для жизни, можно сказать, что их либо вовсе нет в европейской России, либо они добываются в количестве ничтожном, совершенно несоответственном потребностям населения. Таким образом, и по отношению в минеральным богатствам почва России далеко уступает западной Европе. «Но, могут сказать люди, склонные к самообольщению: по словам акад. Гельмерсена, в европейской России залежи одного каменного угля занимают 24 000 ни. миль; богатство Урала железом и медью неисчерпаемы; цинк мы находим в Польше, олово и свинец в Сибири, след. вообще дома». Да, но дом этот так обширен, что выгоднее покупать свинец и олово в Англии и рельсы в Бельгии, чем привозить их из Алапаевска, Барнаула и Нерчинска. А что до каменного угля, то до сих пор из 24 000 кн. миль, им будто бы занятых, разрабатывается едва 15–20 миль, что, впрочем, и естественнее, ибо площадь, очерченная г. Гельмерсеном, по большей части заключает лишь пласты плохих лигнитов, часто обремененных серным колчеданом, а еще чаще имеющих такую ничтожную толщину, что их пока не стоит разрабатывать, особенно в виду сравнительной дешевизны ньюкестля и кардиффа, привозимых из Англии.
Таким образом, какое бы физико-географическое условие человеческой жизни в России мы не взяли, мы неизбежно приходим с заключению, что страна эта представляет менее удобств для цивилизованной жизни, чем западная Европа. Некоторые из этих невыгод неустранимы, другие хотя и могут быть ослаблены в своем значении, но лишь ценою больших усилий, требующих прежде всего распространения в народе точных познаний, а потом проницательности людей, руководящих общественною деятельностью и, главное, энергии самого населения. И того, и другого, и третьего у нас пока нет, отчасти вследствие векового влияния тех же невыгодных физико-географических условий, отчасти же от причин случайных и преходящих. А потому не станем удивляться, если мало-помалу русское племя даже у себя дома будет оттесняться на второй план иностранцами, сначала, конечно, одинокими пионерами, захватывающими в свои руки лучшие статьи дохода и выгодные места в обществе, потом становящимися владельцами земли, т. е. производительной почвы, а потом, наконец, и полными хозяевами страны, при чем может даже не встретиться надобности прибегать к оружию, т. е. делать грубое и рискованное насилие. Западная Польша, Остзейский край, Петербург, южнорусские города, даже некоторые подмосковные местности могут представить немало тому доказательств уже в настоящее время. Что будет далее, – мы не знаем. Искренно желаем, чтобы русский народ не изнемог в борьбе за существование; но не можем не прибавить, что для успеха борьбы нужно иметь усовершенствованные орудия и полную свободу движений. Другими словами: чтобы победа осталась за нами, нужно торопиться приобрести точные знания, разумный, практический взгляд на свою землю и, главное, ту энергию, которая есть необходимое условие успеха всякого дела и которая, в свою очередь, дается лишь людям, умевшим освободиться от всяких стеснений ума и воли силою искреннего уважения в себе человеческого достоинства.
II
Обозревая физико-географические условия существования человека в европейской России, мы видим, что эти условия вообще менее выгодны, чем те, которые представляет западная Европа. Отсюда тот вывод, что борьба за существование для русского труднее, чем, напр., для француза, и что для добывания себе равных или, по крайней мере, подходящих к французским средств к жизни русский должен, во 1-х, работать, лично или посредством машин, более, чем француз, и, во 2-х, располагать большим количеством почвы, чем этот последний. Достижение первого условия очень возможно: были бы запасы угля для получения механического двигателя и знание законов механики, физики и химии, чтобы этого двигателя направлять наивыгоднейшим для себя образом. Но одно размножение механических и химических производств недостаточно для обеспечения экономической судьбы нации, потому что они приложимы лишь в переработке готового сырья, а само сырье доставляется все же природою, т. е. фактором, от нас пока очень мало зависящим. Вот почему, желая, чтобы русский народ жил в экономическом отношении (т. е. ел, пил, одевался, помещался, перемещался и пр.) не хуже западо-европейцев, мы должны обратить еще раз взгляд наш на отношения его к территории. Для этого вспомним то, что уже было замечено относительно средней производительности русской почвы. Одна десятина её приносит владельцу лишь 40 % того, что десятина французская; следовательно, если бургундцу или туреньцу достаточно для достижения известной доли благосостояния пять десятин, то рязанцу или орловцу их нужно не менее 12-ти или даже 15-ты. И в самом деле, наблюдения показывают, что только та средняя русская семья (5 душ: муж, жена, двое детей и старик или старуха) живет довольно обеспеченно, в пользовании которой есть 12–15 десятин огорода, пашни, луга, выгона и леса, при чем она содержит одну корову, 1–2 лошади, 2–3 овцы, свинью и несколько кур. Если же чего-либо из исчисленного здесь не достает, то начинаются лишения, или, как говорят в народе, нужда, которая заставляет главу семьи или одного из членов её, иногда даже нескольких, нарушить семейные связи и идти на сторону искать работы, вознаграждаемой поденною платою, те. сделаться из независимого человека подначальным наемником, что в иных случаях равносильно нисхождению на степень машины или скота. Но много ли русских людей находится ныне в завидном положении обладателей 12–15 десятин? – Раскрыв труды Васильчикова, Янсона, Вильсона или документы, обнародованные министерством государственных имуществ, мы увидим, что очень немногие. Какие же затем средства может употребить и действительно употребляет крестьянин-земледелец для поднятия своего благосостояния хоть на столько, чтобы питаться, быть одетым по климату и кое-как поддерживать дом? – Ответ дают исследования Чаславского, Гацисского и др. об отхожих промыслах, книга Флеровского о положении рабочего класса в России и многочисленные статьи в ваших ежемесячных и ежедневных изданиях. Эти исследования и статьи прямо говорят, что положение среднего русского человека, не смотря на то, что он – землевладелец, нередко бывает хуже положения европейского безземельного бобыля и что наилучший исход для него из этого печального состояния есть оставление родного жилища и переселение в места, где еще свободных земель довольно. Само правительство в последнее время стало разделять это мнение и уже не так стесняет переселение, как кто было в первые 15–16 лет по уничтожении крепостного права. Стало-быть, колонизация есть очередной исторический вопрос для современного русского поколения[11]. Но чтобы переселения были не разрушительны для благосостояния колонистов, а плодотворны, нужно прежде всего знать, куда выгодно переселяться, где есть свободные производительные земли и какие физико-географические и экономические условия ожидают переселенцев на новых местах. Это, как известно, нашими статистиками и экономистами оставлено почти в совершенном небрежении, и во всей русской литературе нельзя найти ничего хотя бы только подходящего к «Отчетам северо-американского эмиграционного бюро», дающим превосходные указания для переселенцев в Соединенные Штаты. Мы, разумеется, не можем и думать о пополнении пробела в настоящем случае; во чтобы все-таки внести известную долю света в обсуждаемый предмет, попробуем характеризовать те земли, которые составляют как бы запасный экономический фонд русской нации и лежит преимущественно в Азии. Начнем с ближайшей страны, с Кавказа.
Кавказский перешеек, завоевание которого стоило русскому народу столько жертв кровью и деньгами, представляет, без сомнения, благодатнейшую часть русских владений. По крайней мере, это безусловно можно сказать про западную его половину, от меридиана Владикавказа и Тифлиса до Черного моря. После Андалузии и Ломбардии это, быть может, лучшая часть Европы по климатическим и почвенным условиям. И если доселе, напр., черноморское прибрежье пользуется репутацией страны нездоровой, лихорадочной, то это лишь потому, что она не возделана, что лесистые болота, находящиеся в речных долинах, не осушены и что новые пришельцы, незнакомые со страною, селятся именно в этих долинах, а не на откловах гор. Изучив лично топографию и физическую географию Европы от Тахо до Урала, от Лондона и Стокгольма до Мессины и Матапана, я смело утверждаю, что если в России есть местность, способная вмещать столь же густое население, как, напр., долины Роны, среднего Рейна или даже По, то это, конечно, западный Кавказ. Между тем, мы видим, что в нем, на пространстве 4000 кв. миль, живет лишь два с половиною миллиона людей, т. е. менее, чем в Альзасе и Бадене, занимающих в совокупности едва 650 кн. миль. Если для сравнения возьмем страну, сходную по топографическим свойствам, хотя и худшую по климату, именно Швейцарию, то увидим, что в этой последней на протяжении 750 кн. миль живет именно столько народа, сколько его есть теперь на 4000 кв. милях западного Кавказа. Стало-быть, можно допустить, что население в 10 или даже 12 миллионов душ не будет обременительным для совокупности областей, орошаемых Кубанью, Рионом, Чароком, верхними Араксом, Курою и Тереком. А если это так, то можно только желать, чтобы эта цифра населения была достигнута как можно скорее, хотя бы с временным ослаблением населенности бассейнов окского, донского и отчасти днепровского (по левому берегу) и волжского (в верхних и средних его частях). У нас нетрудно найти экономистов и администраторов, которые тотчас возразят, что это значит желать разорения средоточия государства; но мы скажем, что, напротив, это значит желать обогащения именно средней России и людей, ныне её населяющих. Оставление переселенцами земель, истощенных культурою, даст возможность последним отдохнуть, приобрести вновь плодородие, а, главное, даст в руки людям, остающимся на местах, большие против нынешнего наделы, приблизит среднюю русскую крестьянскую семью к обладанию теми 15 десятинами, которые недостижимы для неё теперь. Переселенцы же в богатом от природы западно-кавказском крае быстро приобретут все нужное для их благосостояния, лишь бы они не были подчинены военно-подьяческому управлению, как казаки.



