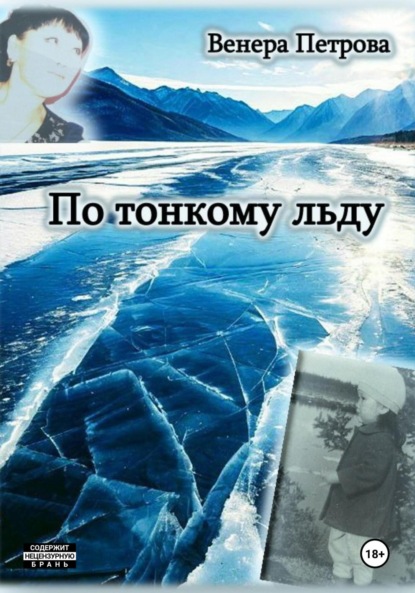
Полная версия:
По тонкому льду
Самым шумным был день 18-летия. Готовились к нему без меня. Я в отказ, ибо у меня горе. Жизнь – боль, я уже старая. Но они насильно усадили во главе длинного накрытого стола. Подарили красного плюшевого волка. Я с горя напилась. И смутно помню, что в конце застолья один мудак с ножом бегал, крича: «Так не доставайся ты никому!». Получается, я ещё не совсем старая, раз парни без меня меня делят. Весь год был таким шумным, пёстрым, что вскоре позабылось, что старость – не радость. Раз через год выскочила замуж, наверное, всё равно пришла к выводу, что бабий век недолог. Хоть бы кто тогда сказал, что он ещё как долог, возможно, всё было бы иначе.
В честь моего 25-летия в ДК торжество устроили, тоже без меня. Я опять пошла в отказ, ибо 25 – уже точно запредельный возраст. И вообще я не в настроении. Прозаик, инициатор праздника, искал меня, звонил родителям: «Как так можно избаловать дитя?». «Дитя» пряталась под кроватью у родственницы. Потом как-то нашлась, уговорили, уломали, квартиру новую подарили. Эмалированный бак жаркого от родителей остался стоять у родственницы дома, там всё и скисло. Спортивная сумка со спиртом «Рояль» пригодилась после застолья. Гуляли все: гаишники, начальники, родственники и не родственники. Никто с ножом не бегал. Одна, правда, мужу изменила, да как-то неудачно, ибо чем-то заразилась. Но муж не узнал, узнал бы, всё равно бы простил.
Сейчас, слава богу, никто с ножом не лезет. Я на заслуженном отдыхе, и это в кайф. Но время от времени потомки пацанов 80-х, как истинные чушпаны, шлют вместо открытки фото своего члена. Может, и не своего. Член, что не в своей руке, не совсем член. Смело можно в спам этот чужой срам.
Стрельцы, со всех концов света и разной степени известности:
Иосиф Сталин,
Уинстон Черчилль,
Леонид Брежнев,
Пиночет Аугусто,
Георгий Жуков,
Александр Суворов,
Мария Стюарт,
Жак Ширак,
Людвиг ван Бетховен,
Юрий Никулин.
«…С годами жизнь отнимает у человека главное – предвкушение. Предвкушение любви, предвкушение богатства, предвкушение удачи, предвкушение славы… Она отнимает тот счастливый озноб, пугливое сердцебиение, мучительно-сладкое преодоление мига, часа, дня – на пути к предвкушаемому…
Нет, Господь милосерден, у человека и в старости могут быть свои подарки. Он и в старости может быть счастлив, богат, удачлив… И ему даётся, даётся с годами многое из того, о чем он мечтал… Господь отнимает только одно… И если ты спросишь меня, что есть молодость, – я отвечу тебе: сладостное и безбрежное предвкушение…». Дина Рубина, «Синдикат».
Вслед за ускользающей метафорой
(“И в мире нет таких вершин, что взять нельзя”)
“И в мире нет таких вершин, что взять нельзя”. Вершина горная покоряется тобой раз и навсегда. Подниматься на эту гору ещё раз смысла нет. Отметка уже вписана в список личных побед.
Я, конечно, не альпинист, но и у несостоявшегося скалолаза есть личные рекорды. С учётом боязни высоты, скромный результат тоже результат.
Речь сегодня не о том, но о не менее важном лично для меня. Я это сделала! Преодолела свой страх, свою лень, непонятную робость. Впервые за десять лет вновь стала читать книгу. Мне проще самой её написать, чем читать.
Десять лет забвения – ни строчки от себя, ни в себя. Ушла в отказ, ибо смысл вдруг исчез. Ушла в себя, вернее, в жизнь. Зачем искать смысл в бессмысленном, если в себе всё есть. Зачем писать по мотивам своей совести, если лучший автор – сама жизнь. Проза жизни вытравила поэзию.
Сплошной non fiction, с каждым днём круче и запутаннее сюжет, что всё больше людей от автора в а@уе. Потому в списке прочитанных книг сплошная фантастика да готика, даже реанимированная Чебурашка. Меняем телевизор на книгу, одну нереальность на другую. Кому бежать некуда.
Вершины ещё выше. Со дна их и не видно. Чтоб покорять какие-то высоты, вначале надо выбраться из ямы. Тому, кто сам не в курсе, что он в яме, вершины – это иллюзия в чьей-то больной голове.
Я вчера в почти один присест прочла целую книгу! Ушла в другую реальность. Оказалось, я не только быстро пишу, но, как и прежде, быстро читаю. Мастерство не пропьёшь – будто и не было этих десяти лет. Может, книга зацепила, автор давно в списке избранных. Мураками, который Харуки – это для меня высший пилотаж. С ним хоть к дьяволу на поклон. Дьявол у него по-другому называется, но он в сюжетах обычно имеется.
«Бесцветный Цкуру Тадзаки и годы его странствий» хорошо зашло, до сих пор под впечатлением. Если бы книга была в собственности, то метки ставила бы на многих страницах. Но меток было бы явно меньше, чем в книге автобиографических очерков «О чём я говорю, когда говорю о беге». В своё время я зачитывалась его «1Q84», «Послемраком». «Бесцветный» «достоин» моего чтения. Ведь никого и ничего не читала, а тут за день целую книгу.
Ушла в тройную реальность, созданную мастером на все времена. Безусловно, это знак. Что-то подсказывает мне – список прочитанных книг будет обновляться регулярно. Первый роман Мураками за последние шесть лет «Город и его ненадёжные стены» вышел только в этом году. Сюжет книги пока не раскрывается издательством Shinchosha, однако уже известно, что издание содержит 1200 страниц, а краткое описание на обложке гласит: «Чистый, 100-процентный мир Мураками, который потрясает душу». Книга доступна только в Японии и только на японском языке, переводов пока нет, даже на английский. Раз гений целых шесть лет работал над текстом, значит, он превзошёл самого себя.
Если альпинист, стоя на очередной вершине, получает высшую степень наслаждения, то писатель чувствует в себе только опустошение. Ему важнее дорога, ведущая в даль, чем сама даль. Куда приятнее само стремление, преодоление, чем достигнутая цель. Не потому ли он так долго работал над своим романом?
А моя собственная непривычно объёмная не вмещается в «столе», рвётся в бой, увлекая меня за собой. Хочется поставить заветную точку и отпустить её в свободное плавание. Обычно на одну вещь меня хватало на месяц. Потом мы устаём друг от друга, прощаемся навсегда.
За эти десять лет нечитания, неписания и отрицания я пропустила целый роман в двух частях любимого Мураками. «Убийство Командора»: часть первая «Возникновение замысла»; часть вторая «Ускользающая метафора». Замысел и метафора уже зацепили, заинтриговали. Я уже в предвкушении.
Накануне конца света, обычно, полы не моют. Я из тех, кто моет. Помыв полы, хотелось бы напоследок оказаться в мире Мураками. Мой собственный созданный мир слишком тесно связан с этим предапокалипсисом. Лучше сгинуть вслед за ускользающей метафорой, чем с экзистенциальным ужасом ждать всеобщего конца.
Харуки Мураками называют подлинным страдальцем нобелевской премии. Он вечно входит во все топы из года в год, и награду всякий раз получает кто-то другой. Уж трижды прав Бальзак: «Многие великие гении опередили века, некоторые таланты опережают только годы».
В мире нет вершин, что взять нельзя, не гениям мерещатся другие – недосягаемые, непокорённые, неведомые.
В моём возрасте с зеркалом не дружат
Вениамин Каверин о Борисе Пастернаке: «У него в крови было чувство счастья, что он существует». Очень интересное выражение – чувство счастья, что он существует. Если оно в крови, человек просто обязан быть счастливым. А это не каждому дано. Счастье в моменте. Оно у нас или в далёком прошлом, или где-то там за горизонтом, там, где нас нет.
Счастье везде: оно или материально, или эфемерно, но оно не в нас. Мы боремся за счастье, мечтаем о нём, ищем его, а счастье всегда было и есть в нас. Счастье в самом факте существования самого себя.
Каверин, который не прогнулся, не предал, о Борисе Леонидовиче, иноагенте иного времени: «Разговоры с Пастернаком были для меня очень затруднительны, он мыслил совершенно особенно, чем я и всё остальное человечество, За этими «прыжками через пропасти» уследить можно было, ну, 15-20 минут, а потом я уставал, я не мог просто поспеть за ним».
Роман «Доктор Живаго» писался в течение 10 лет. Фоном для текста стали исторические «катаклизмы»: первая мировая война, революции и гражданские войны. В 1957 году этим произведением заинтересовался итальянский издатель Фельтринелли, который никак не мог дождаться выхода книги в России. Когда появилась точная информация, что на родине писателя роман публиковаться не будет, Пастернак сам тайно передал итальянцу права на печать перевода «Доктора Живаго». Дело в том, что роман был не допущен к печати в СССР из-за критического отношения его автора к событиям Октябрьской революции, а само произведение получило клеймо «антисоветского». Именно за этот роман Пастернак получил Нобелевскую премию по литературе в 1958 году. Решение присудить престижную награду Пастернаку обернулось гонениями со стороны власти. А негативный настрой переняли и «собратья» по перу. В итоге было принято решение исключить Бориса Леонидовича из Союза писателей, а его тексты и вовсе перестать печатать в советских изданиях. Его даже хотели выслать из страны за якобы шпионскую деятельность. А его любимая женщина была арестована по таким же надуманным обвинениям. Все те люди, которые боготворили творчество писателя, решили резко изменить ход своих мыслей и отвернулись от него. Пастернаком было перепробовано множество вариантов решения такой проблемы. Он даже отослал в Швейцарию письмо об отказе присуждённой ему премии: «В силу того значения, которое получила присужденная мне награда в обществе, к которому я принадлежу, я должен от неё отказаться, не примите за оскорбление мой добровольный отказ». Однако это не повлияло на гнев тех, кто начал по-настоящему травить поэта. Он отчаялся. Большего унижения для гения и не придумаешь. Я даже подозреваю, что сама жизнь вытравила из него врождённое чувство счастья. И поэт написал стихотворение «Нобелевская премия»:
Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу ходу нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь что будет, все равно.
Что же сделал я за пакость,
Я убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.
Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора —
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.
Гений ошибся. Сила подлости и злобы неистребима. Зато нет претендентов на Нобелевскую, чтоб от неё отказаться. Нам она и не нужна, чужого нам не надо…
А было ли у меня то чувство счастья, что я существую? Помню момент понимания о том, я существую. Особой радости, тем более, счастья только от факта существования не было. Я есть, значит, это кому-то надо. Вы подвиньтесь, а то задену. Нет, вру, было дело. Только один раз и очень давно.
Кстати, тут на днях подняла свой «архив», чудом уцелевший от набегов минимализма. Для чего-то я хранила его все эти годы. Вот и настал момент истины. Надо использовать шпаргалки памяти. Мы, которые родом из СССР, не только письма писали, ещё и дневники вели. Только вот не помню, вела дневник я в школе или достаточно было дневника с оценками и «неудами» по поведению. Сохранились записи только с 1985 года и то в качестве «сводной тетради», где ссылки на даты и ключевые события. Но и этого достаточно, чтобы оживить в памяти свою юность. В деталях. В 1985-м мои одноклассники выпускались, а я на третьем курсе училась. Всё уже давным-давно началось, я уже не наивная тепличная девочка из периферии.
Почему тетрадь сводная? В целях конспирации. Большинство любовных писем и фотографий поклонников мной было уничтожено. Чтобы как-то успокоить шибко ревнивого мужа. Будто этим я могу обелить свою биографию. Какая, на хрен, биография до 19 лет? Стандартный набор для девочки с некоторыми перекосами.
В жизни как-то всё само шло. В моём лексиконе, как у гейш, отсутствует слово «нет». По велению судьбы плыву я по течению, но вдруг ни с того, ни с сего делаю крутой разворот. У меня нет прыжков над пропастью, скорее, прыжки в пропасть. В неизвестность. Долго думать – не про меня, точно. Моё дело выпускать стрелы вперёд, не целясь, наугад, на авось. Думать при этом не обязательно. А выпущенную стрелу уже не остановить.
«Человеку нужно два года, чтобы научиться говорить, и шестьдесят лет, чтобы научиться держать язык за зубами». Евреи дело говорят. Пока остальные говорят, они дело делают. А мой не еврейский язык своею жизнью живёт. Если надо, на меня он первым донесёт. До 60-ти ещё дожить надо, чтоб научиться держать язык в узде. С таким языком есть риск, что и не доживёшь.
Радость от самого факта существования испытала как раз в том самом 1985 году, стоя ночью перед зеркалом у себя дома. Это зеркало в отчем доме навсегда запомнила меня такой: юной, свежей и красивой. Никогда до и уже тем более после я никогда себя красивой не считала. Мама моя пресекла самолюбование уже в зародыше, внушая мысль, что я серая мышка, пустое место. Нам всем навязывали скромность, что в одиночку мы никто, сила только в единении, в общности. Эту патологическую скромность несла через всю свою жизнь, как некое достоинство.
Мне не раз говорили, что я не дотягиваю до своей мамы. А мама таковой себя не считала, она сама страдала этой самой скромностью. Буквально на днях моя родственница обрушила на меня столько новых пазлов, о существовании которых, я и не могла знать. Говорила, что помнит маму юной, что она была намного красивее, чем на фотографиях. О том, кого она любила, и кто её любил, как она за отца вышла, что при этом было. Скажем, готовый сюжет для любовного романа. Она, в отличие от меня, много с мамой говорила и о ней самой, и обо мне тоже. Мама мне про себя мало что рассказывала.
Даже через призму навязанной скромности в зеркале в ту ночь отражалась мое лучшее «Я». Помню, я долго собой любовалась, но особого счастья в моменте не ощущала. Было острое сожаление, что такую красоту уничтожит время. И мне захотелось остановить это самое Время, застыть в моменте, хотя бы запомнить навсегда миг откровения. В итоге получилось. Как видите, я помню тот миг, себя в моменте. Себя, которой давно нет. Даже зеркало то, с которым я долго дружила, которое вселяло уверенность в себе, нацеливая на новые победы на любовном фронте, спрятано подальше. Интерьер другой. Да и времена иные. В моём возрасте с зеркалом не дружат. Оно же без фильтра…
В параллельной группе на базе 10 класса училась моя землячка. Любимое её выражение «А @ули нам, почти красивым» работало безотказно: она пользовалась бешеным успехом у противоположного пола.
Про карательную гинекологию и про мою самую страшную фантазию, которая никогда не подводит, позволяя в любой ситуации, в любом моём возрасте делать не только пируэт, но и элевации, опять не рассказала. Начать с Пастернака, с его прыжков через пропасти, и закончить, а ля явно naturalis, прыжками на собственной постели, это слишком даже для меня.
У края пропасти
С детством пора распрощаться. Многое так и не удалось реанимировать. Я же не аутист, чтоб всё помнить. Оно и не нужно, даже мне.
Кадры из старой хроники иногда будут повторяться в беспокойных снах – как я бегу за родителями, которые поехали на мотоцикле меня искать. Не прочь себя поискать по закоулкам прошлого. Меня настоящую, наивную, невинную, не по годам умную.
Оригинал хроники давно истлел, отправлен в утиль, возможно, сожжён. Остались только кое-какие копии.
Я всё собиралась оцифровать бобины с записями, на которые отец записывал меня с самого рождения. Они были истлевшие, изъеденные временем, да и такого магнитофона давно не было. В детстве мы часто прокручивали записи. Папа иногда записывал поверх старых записей. Наверняка, новых плёнок не было. Потому мой лепет, смех, даже плач записывался поверх речи маршала Малиновского. По всей видимости, это была речь маршала Советского Союза Малиновского на первом послевоенном параде Победы 9 мая 1965 года. После 1965 года полномасштабные военные парады проводились в значимые юбилейные годы – 30 лет Победы (1975), 40 лет (1985) и 45 лет (1990). Знаковое, историческое событие, потому отец и записал. Выходит, парад победы у нас в деревне был в 1975 году, когда мы в первом классе учились. В честь этого события и была построена та самая трибуна, с которой началась моя писательская эпопея. Всё сходится. Помню, вечернее факельное шествие, когда зажигали тряпочки с керосином в жестяных банках. А в 1985 году мы участвовали на этом параде уже в дальневосточном городе, будучи третьекурсниками. Сохранились фотографии. Я как-то об этом не задумывалась. Казалось, парады были всегда. Значит, нас гоняли на 7 ноября и 1 мая.
Папа был в курсе всего. После работы читал, писал, фотографировал, во время отпуска охотился, ездил по стране. В раннем детстве я поимённо знала многих значимых руководителей стран, политиков. Вот моя родственница говорит, что всю жизнь боялась, что война начнётся, такая была атмосфера, потому и детей не завела. А я вот не помню, чтобы нас что-то угнетало, что угроза войны так сильно ощущалась. Помню карикатуры в журнале «Крокодил», высмеивающие НАТО, Пентагон, Запад. Да там и своих линчевали: тунеядцев, пьяниц. Два коммуниста под боком, но это не напрягало. Это было просто обязаловкой, общественной нагрузкой, которую домой не приносили. Всю работу делали на работе.
Помню, я знала, кто такой Иосип Броз Тито. Югославский коммунист, революционер и государственный деятель, служил в различных должностях с 1943 года до своей смерти в 1980 году. Занимал пост президента Социалистической Федеративной Республики Югославии с 1953 года до своей смерти 4 мая 1980 года. Да я много чего «знала», ловила всё подряд, любую доступную информацию. Знала, да вряд ли понимала.
А бобинные ленты пришлось выбросить. Кто знал, что бобинные магнитофоны станут снова в тренде, и при желании всё можно восстановить. Живая память, живая речь исчезли без следа. Хотя это никому не нужно. Я для своих родителей была центром вселенной, теперь же даже самой себе, увы, неинтересна.
Но один эпизод из моего детства навсегда остался в памяти. Занимает особое место и до сих пор играет ключевую роль. Если ключ к сердцу давно утерян или у кого-то в потайном кармане широких штанин, ключик к моей страстной натуре находится в соседней деревне. Вернее, в памяти, как напоминалка для похоти.
В той соседней деревне мы летом работали на капусте. Типа трудового лагеря, только без смотрящего. Это, когда трусы на голову одевали, чтобы рассмешить старшую девочку, голышом по улице бегали, отрабатывая задание той же девочки.
Мы жили в какой-то избе, от нас начинался спуск к реке. Почти рядом был дом, где жила по нынешним понятиям слегка неблагополучная семья. Многодетная, причём. Слышно было, как поддатая мать воспитывала своих детей.
Мы с подругой как-то подошли поближе к дому. Дверь была открыта. Было видно, как женщина отчитывала провинившегося сына, при этом порола его ремнём. Мальчик визжал на всю округу, а мать и не думала останавливаться. В чём так можно было провиниться, чтоб буквально сдирали с ребёнка кожу?
Мы ещё долго стояли, заворожённые этим небывалым зрелищем. Я тогда ещё не понимала своё девичье тело, от чего трусы мокнут. Не знаю, как подруга, что она при этом испытывала, но было видно, что это ей тоже нравится.
Мать–героиня давно спилась, её на свете нет. Выпоротого её сына тоже. Но эта незамысловатая сцена воспитания подрастающего поколения навсегда осталась в моей памяти. И как бы ни старались мужчины угодить мне, ничего у них не получалось. Ну, я делала вид, что в восторге, старалась сама угодить, но ЭТОГО не было. Долго считала, что дело в мужчинах, меняла их, надеясь, что следующий точно будет тот самый, который превзойдёт мать-героиню из соседнего села. Но безрезультатно, пока не нашёлся такой же помешанный на этом деле, с которым можно всё. Просто надо было говорить, а не шевелить булками. У каждого ведь свои тараканы в голове. У меня вот такие.
Почему именно эта алкоголичка сыграла огромную роль в моём половом воспитании, не знаю. Несмотря на отсутствие в то время детских пособий, льгот, материнского капитала, нарожала кучу детей. Вспомнишь про карательную советскую гинекологию, невольно приходишь к выводу, не то, что рожать, ноги раздвигать не надо было.
Сейчас в отдельной палате с анестезией можно рожать. Мужу даже позволено присутствовать, что не желательно. После такого стресса он ещё долго будет отходить. А женщины про все ужасы тут же забывают.
Рожай, не хочу, хотя бы ради денег. А слабо рожать в советском роддоме? При поступлении отбирают всю одежду, белье. Трусы нельзя одевать. В качестве прокладок дают огромную пелёнку, которая стирается и кипятится в общем котле, что вонь стоит на весь роддом. И как прикажете ходить с этой пелёнкой между ног? Не потому ли все няни были злые? Медсёстры вели себя хуже, чем в гестапо. Попробуй, пикни. Мне повезло – мои роды принимали мужчины. Они лучше себя вели, чем женщины-гинекологи.
Все бабы при этом ругали своих мужчин: «Чтоб я ещё раз с ним… Да ни за что!». Но всё равно рожали или аборты делали. Раз бабой уродилась, без этого вонючего конвейера никак.
Помню, в молодости мечтала вслух: «Скорей бы на пенсию, чтоб никто ко мне приставал». Чтоб оставили, наконец, в покое. Как там у Мураками? «После каждого захода солнца он никому ничего не должен». Сансет начался, но ничего в жизни не поменялось.
Автор знаменитой концепции сценарного программирования и теории игр Эрик Берн уверен, что жизнь каждого человека программируется до пятилетнего возраста, и все мы потом живём по этому сценарию. Он считает, когда ребёнку исполняется шесть лет, его жизненный план уже готов. План на будущее составляется в основном по семейным инструкциям. Не зря психотераптевты в первую очередь спрашивают: «Что родители говорили вам о жизни, когда вы были маленьким?». Да ничего особенного. Надо хорошо кушать, хорошо учиться, быть не хуже других, но и не шибко лучше. Они нас учили одинаковости. Отчего тогда я такая шершавая? Сценарий жизни строится исходя от сценария жизни своих родителей. Они у меня были слишком положительными. Мне же положительное кажется подозрительным.
Мама часто говорила: «Ну, в кого ты такая?». Вот и весь укор, упрёк. Она была посвящена во все мои тайны, проживала со мной другую жизнь. Какая-никакая, я у мамы с папой одна. Больше она не рожала. По словам родственницы, она ей говорила, что не захотела ещё детей, боясь оставить меня сиротой. Она меня-то чудом родила. Не спешила я явиться в свет. Да и карательная гинекология сделала, наверное, свое дело. Когда я уже в школу пошла, хотела одну сиротку удочерить, да побоялась, что это плохо повлияет на мою психику. И правильно сделала. Я даже представить себе не могу, чтобы кроме меня ещё кто-то был. С кем-то делить мамину любовь и папину заботу? Эгоистом я не стала, а надо было.
«Солнце падает в пропасть за океаном. Ведь выплывет оно завтра вновь с другой стороны нашей Земли. Ему тоже не вырваться из своей сансары, вписанной навечно во многие другие. Может, ему тоже нужна своя мокша, и каждый раз падая в пропасть за океаном, оно надеется окунуться в нирвану… Когда-нибудь и оно погаснет, получается, это вовсе не трагедия, а ожидаемый логический финал. В той пропасти, которая ждёт нас всех, и должна быть нирвана… Мир един, но почему-то кажется, что только там солнце особенное, мандалообразное. Судьбу не проведёшь, из замкнутого круга собственной сансары не вырваться» («Путь в Варанаси». Автор: я).
Стоя у края пропасти, любоваться дивным сансетом, которого нет. В это время у нас дни без рассветов и закатов. Хорошо, хоть не полярная ночь.
Зелёный павиан Джимми
Наша виртуальная знакомая по Индии снова в Путтапарти. После нескольких лет в родной Белоруссии момошки и даже кёрт кажутся пищей богов. И вообще переждать тяжелые времена лучше в ашрамах Путтапарти, где до сих пор крышует Саи Баба. Русскоговорящие женщины со всего бывшего Советского Союза особо почитают Шри Сатью Саи Бабу. Сам гуру умер в 2011 году, но число почитателей растёт. Можно верить или не верить, но вреда от этого явно нет. Главное, в ашрамах буквально за копейки можно жить. И вообще в Индии нереально умереть с голоду. Потому в карте будущих моих путешествий присутствовал пункт Путтапарти, город в округе Анантапур индийского штата Андхра-Прадеш. Для меня один существенный минус – в ашраме нельзя курить. Так везде нельзя, да всё равно можно.
Так вот, Катюша, как все её называют, по доброте души, сообщила, что готова опять отнести письма с желаниями к дереву желаний, где медитировал сам Саи Баба. Это работает лучше, чем желания на Новый год. Проверено на себе. Помню, тогда я буквально выжала из себя эти три желания. С годами исчезает не только блеск глаз, острота чувств, но и способность мечтать, даже желать что-либо конкретно. Ну, можешь желать здоровья себе и близким, мира для всех, благополучия. Но это так не работает. Желание должно быть сформулировано конкретно, в деталях. Лучше желать что-то материальное, а не эфемерное, чтоб потом предъявлять претензии, если что-то пойдёт не так. Потому я в тот раз очень долго думала, чтобы такого пожелать. Чем старше ты становишься, тем меньше желаний сугубо для себя. Обычно ты желаешь что-то своим детям, потом внукам, может, даже мужу или наоборот всем добра и сметаны. Желание должно быть для себя лично. Только тогда это работает. В тот раз машину описала, вплоть до цвета. Машину купили, по моей инициативе, боюсь, Саи Баба не при чём. Правда, другого цвета, чем на записке.



