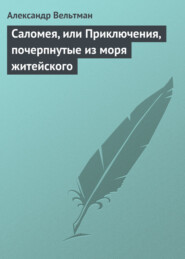 Полная версия
Полная версияСаломея, или Приключения, почерпнутые из моря житейского
– Постой, постой, брат Проша, куда? не уходи, сиди! – сказал он Дмитрицкому, который, показавшись почтенному родителю, хотел было поцеловать у него ручку и шаркнуть вон.
– Постой, брат, постой, вот придет Матвевна, пусть-ко посмотрит на тебя да скажет, пригоден ли ты Авдотье Селифонтьевне.
– Матвевна придет, тятенька? – сказал Дмитрицкий, смекнув дело, – а я было хотел съездить к Иверской!
– Оно так и следует; да постой: что ты, брат, нанял за слугу такого? такая скверная рожа!
– У «ого? у Конона? Помилуйте, тятенька; вы посмотрели бы, что за душа у этого человека! и что за верность, что за усердие! так и сторожит меня.
– Мне не нравится.
– Знаете, тятенька, я ведь забыл, как бишь Матвевну-то величают по батюшке? – спросил Дмитрицкий.
– Да Матвевна же и есть по отце; а зовут-то ее Соломонидой; ну, садись и нишкни. Слышишь?
– Слушаю, тятенька.
– Она тут близко живет.
Матвевна не заставила себя долго ждать. Она вошла в дверь, обратилась к образной, перекрестилась и потом, низко кланяясь, возгласила:
– Здравствуй, батюшка, Василий Игнатьич, все ли вас бог милует, как изволите поживать?… Ох, господи, так и замирает душа, как вспомнишь Феклу Семеновну.
Василий Игнатьич откашлянулся.
– Матвевна, – сказал он, – вот его графское сиятельство пожаловал ко мне…
– Ах, ваше графское сиятельство; извините; я такая дура, что мне и не в примету… что вы здесь изволите сидеть!..
– Так вот, Матвевна, – продолжал Василий Игнатьич, – их графскому сиятельству есть дельце до тебя.
– Какое, батюшка?
– А вот какое: их графскому сиятельству угодно жениться на Авдотье Селифонтьевне.
– На Авдотье Селифонтьевне? их графскому сиятельству? Ох, да вы меня, сударь, морочите.
– Ей-ей, так! – отвечал Василий Игнатьич, разгорясь от довольствия, что Матвевна в самом деле почитает его Прохора Васильевича за графа. – Вот что, Матвевна; оно, то есть, ничего, так себе, его графское сиятельство хочет отбить невесту у моего Прохора! Ась? Каков его графское сиятельство? Матвевна, а?
– Ох, да вы, Василий Игнатьич, морочите меня! – повторила Матвевна, всматриваясь в сидящего перед Василием Игнатьичем франта, в белых перчатках, с тросточкой, в зеркальных сапогах.
«Не узнает меня, Соломонида Матвевна, – подумал Дмитрицкий, – да и где ж узнать, мы уж с ней, чай, не видались с самого создания мира. Заговорю с ней по-вороньи, может быть догадается».
И Дмитрицкий откашлянулся, подернул головой и пожал неуклюже плечом.
– Оно, то есть, Соломонида Матвевна, не изволили признать меня, – начал он скороговоркой, – а мы, кажется, всегда со всяким почтением пребывали аккурат, то есть, как следует.
«Ох, да что ж это, – подумала Матвевна, – кто ж это такой? По перьям-то графчик, а по голосу-то сдается, не тово…»
– Ну, что ж задумалась, Матвевна, – сказал Василий Игнатьич.
– Ой, насмехаетесь надо мной, сударь Василий Игнатьич, сердце чует…
– Чует? да еще не расчухала? а? Матвевна, как ты думаешь?
– И думать-то не знаю что… да неужели уж…
– Уж нечего скрывать, тятенька, я вижу, что Соломонида Матвевна узнала меня, – сказал Дмитрицкий.
– Прохор Васильевич? Господи! да кто ж бы подумал? – вскричала Матвевна, – и в глаза смотрю, да не узнаю!.. да как переменился.
– А? Матвевна, вот он каков приехал из-за границы-то, сам на себя не похож! – сказал Василий Игнатьич.
– Что ж, сударь, действительно переменился, да к своему же авантажу.
– А?… Прохор, встань-ко да перевернись на одной ножке, по-французскому-то.
– Извольте, тятенька, – отвечал Дмитрицкий. И он встал, прошелся по комнате en galant homme[134], перевернулся на одной ножке и сделал приятную мину Соломониде Матвевне.
– Ну, что скажешь, Матвевна? – спросил Василий Игнатьич.
– Ну, уж правду сказать, великатес, батюшка! уж такой стал графчик, бравой да гибкой, словно на пружинах!.. поопал в лице только, чай, с дороги? Когда пожаловал?
– Не о том дело, Матвевна, а вот что: ты побывай сейчас же у Селифонта Михеича, понимаешь?
– Понимаю, понимаю, сударь. Господи! да еще бы Авдотья Селифонтьевна не пошла за такого женишка! а с родителями-то ее был уж лад.
– То-то; так ты как знаешь, так и делай, чтоб до поста дело покончить. На-ко, вот тебе на гарнитуровое платье да на платок.
– Много благодарна, Василий Игнатьич, помню и прежние ваши щедроты; из одной доброй памяти милостей Феклы Семеновны я бы Прохору Васильевичу просватала царь-девицу, ей-ей!
– Ну, ну, не сули журавля в небе, дай синицу в руки.
– Добро уж, добро, прощайте, сударь! Ну, графчик, нече сказать!
– Ах, да, тятенька; кстати Соломонида Матвевна напомнила: ведь я за границей приторговался к графству.
– Как к графству приторговался?
– Да так; там стоит только купить графство, то есть поместье, так и граф. Если пожалуете мне денег, я тотчас же покупаю.
– Ой? неужели? А много денег?
– Тысяч двести, не больше; чудное именье! Какие виноградные сады, какие вины! Да вот вы знаете вейн-де-граф?
– Как не знать.
– Ну, так вот именно; по этому графству и вино называется графским.
– А шампанеи там нет?
– Немного: тысяч пять кустов виноградных, на десять тысяч бутылок.
– Ей-богу?
– Не более.
– Слышь ты, это мало! В самом деле не худо бы!.. Слышь, Матвевна, ты покуда никому не говори!
– Ни слова, сударь!
– Ну, то-то, ступай, ступай себе с богом, да не мешкай!
– Уж я буду мешкать!
Матвевне не впервые пришлось возбуждать в девушке смертную охоту поскорее выйти замуж, восхищать ее воображение чудным женихом, поселять в сердце алчную к нему любовь, внушать страстное желание скорее быть просватанной и боязнь, чтоб дело не разошлось. Это был какой-то морок.
– Знаю я, сударыня, – говорила Матвевна, как Пифия[135], – что это твой суженый, не обойти его конем!
И омраченная девушка, при первом свидании с своим суженым, не спрашивала уже ни у одного своего чувства, по сердцу ли он ей, а потупив глаза только думала, как бы ему понравиться. Она готова уже была на веру в слова Матвевны без смотру стать под венец.
Авдотья Селифонтьевна была не царевна премудрая, Матвевне стоило только зайти в ее покой, всплеснуть руками, ахнуть и вскричать:
– Радость ты моя, Авдотья Селифонтьевна, какое счастье тебе выпадает! На днях гадала о тебе, выходит жених, на пути, да и только; ну вот выходит, хоть сто раз клади карты, не оттасуешься! А сегодня, сударыня… ох, дайте собраться с силами!.. запыхалась!
– Говори, душечка Матвевна!
– Вот дух переведу… Ох! какой бравой, какой приятной, какой богатой, что за щеголь! что наши здешние графы и князья!
– Да говори, душечка Матвевна, кто ж он такой?
– Уж вестимо, что не какой-нибудь голь-инарал!
– Да кто ж он такой? милочка Матвевна!
– Погоди, не вдруг… ей-ей! вот уж не ожидала!.. Видела я его и прежде, хорош был, красавец, вот и все; а теперь, как побывал во французской-то земле – ну! уж я и не знаю, что сказать. Купил там графство – вот слыхала ты про графское вино, что подают на стол?… из его поместья… купил за двести тысяч… ей-ей!
– Голубушка Матвевна, да кто ж он такой?
– Кто такой! сударыня ты моя! готовь только подвенечное Платье, а уж графиней-то будешь! И до отъезду-то его за границу, я уж видела, что за человек, и тебе же его прочила.
– Мне? да ты мне сватала сына Феклы Семеновны… а его не сватала.
– Не сватала?
– Когда ж ты сватала? разве с маменькой говорила… А почетной-то гражданин, эка великая вещь! мы сами почетные, что ж тут такого особенного?
– А то и особенного, сударыня, что права-то те же дворянские, хоть шестерку запрягай в карету иль коляску; а в кармане-то миллион; а у простого-то дворянина – шиш! Вот тебе и что особенного. Вот он купил себе графство, да и граф; ступай себе куда хочешь подбоченясь; а дворянин-то выслуживайся, да еще разве что до инаральства дослужится.
Авдотья Селифонтьевна задумалась, подставила одну ручку под локоток другой и опустила голову на ладонку, забыв, что мадам твердила ей всегда, что это мушичка так делает.
– Да неужели же это… как бишь… Прохор Васильевич?
– Ох, догадлива ты, Авдотья Селифонтьевна! и не видывала такой барышни! ей-ей! Зато уж и я тебя люблю! В старину какой-нибудь королевич увидел бы тебя в трубу у окошка, и быть бы тебе королевой; да теперь не те времена, перевелись королевичи, да и царств-то стало мало: вот только и есть что русское; да иноземные аглицкое, французское, да немецкое, да еще какое-то; да и те все едино, один у них царь был Аполион.
– Помилуй, Матвевна, а турецкое-то?
– Вот тебе раз; какое ж у турок царство, там просто султан сидит с усами по колено да с трубкой в руках; да и какие ж там женихи?
– Ты видела его, Матвевна? – спросила Авдотья Селифонтьевна, снова задумавшись.
– Гм! бежала бы я сюда опрометью, если б не видела!
– Так ты говоришь, Матвевна, что он в Париже купил себе чин графской?
– Что чин, – поместье с виноградными садами!
– Стало быть, он там и жить будет, как женится?
Этот вопрос смутил Матвеевну; ей пришло в голову, что в самом деле Прохор Васильевич, купив во французской земле поместье, вздумает жить там, и это расстроит свадьбу. Селифонт Михеич и Марья Ивановна, подумала она, ни за что не отпустят дочки в чужую землю, да и Авдотья Селифонтьевна, верно, не согласится идти за французского помещика.
– И, бог с тобой! – вскричала она в ответ, – зачем же жить во французской земле, что там делать-то?
– Ах, нет, Матвевна; уж если я пойду за него замуж, так с тем, чтоб ехать жить в Париж, в свое именье, непременно!
Матвевна совсем перепугалась.
– Ах, друг ты мой сердечный, да избави бог! На этом условии ни отец, ни мать твои не согласятся отдать тебя замуж! Уж ты хоть до свадьбы-то не говори никому, что жених-то твой французской помещик. И! да старики и руками и ногами отбрыкаются от него! Не говори, ни за шт? не говори!
– Ну, хорошо, я не скажу; а уж это непременно; не то я и замуж не хочу идти. Теперь все ездят в Париж. Ведь все моды-то, Матвевна, идут из Парижа: там настоящие, а здесь что, дрянь, да и как дорого, если б ты знала: я видела у мадам Лебур настоящую шляпку, прелесть! да они еще и не продают настоящие парижские шляпки, а выписывают себе для образца да и шьют по ним: уж где ж так сшить, как в Париже. А перчатки-то французские, платки-то бур-де-суа, материи-то французские – прелесть! да и всё; а здесь-то что?
– Правда, правда, нечего и говорить, – отвечала Матвевна. – Ох ты, мое солнышко светлое! Как разрядит он тебя там графиней, что это будет! на удивление!
И с этим словом Матвевна расцеловала Авдотью Селифонтьевну: а у Авдотьи Селифонтьевны так заколотило сердце от желания сейчас же, сию минуту выйти замуж и ехать тотчас же от венца в Париж, что если б не Матвевна же принялась уверять ее всеми святыми, что это сбудется, то она, по русской поговорке, пошла бы да и утопилась.
VНа Матвевну можно было полагаться. Она предуведомила Василья Игнатьича, чтоб, пожалуйста, он до времени не говорил никому, что сынок его покупает во французской земле графское поместье.
– Ладно, ладно, – отвечал он, – помолчу, помолчу! Я уж и деньги выдал Прохору. Так завтра нас ждут?
– Завтра, сударь, чайку откушать.
– Да ты бы, Матвевна, намекнула, чтоб бутылочку вен-де-графцу приготовили, что, дескать, я очень люблю это вино, слышишь?
– Скажу, скажу, Василий Игнатьич; что ж им значит бутылочка белого; и шампанского поставят, если прикажете.
– Нет, до шампанского еще дело дойдет; а вот вен-де-графцу-то непременно! Ступай себе, мне надо ехать.
И Василий Игнатьич отправился к Сидору Яковлевичу, знакомому погребщику, прямо в его погреб ренских вин, и, не успев порядком разговориться о добром здоровье, потребовал бутылку вен-де-графу.
– Прикажете завернуть?
– Нет, брат, раскупорь, – сказал Василий Игнатьич.
– Извольте, сударь. Да что ж простого столового; не прикажете ли попотчевать вас шампанским?
– Что? простого столового? Нет, брат, настоящий-то венде-граф вино не простое, а графское, оттого и называется так.
– У нас, Василий Игнатьич, самое лучшее, подлогу нет, извольте откушать.
– Покажи-ко бутылку; здешней разливочки?
– Да как же, сударь; белое ренское привозится в бочках.
– Что? как бы не так!
– Ей-ей; да вот извольте спросить у Трофима: он жил у Леве.
Василию Игнатьичу раскупорили бутылку, налили вина в рюмку и подали на подносе. Василий Игнатьич хлебнул и поморщился.
– Нет, Сидор Яковлевич, извини; это, брат, не вен-де-граф!
– Помилуйте, Василий Игнатьич, буду ли я подавать вам другого вина; сами же изволили потребовать вен-де-графу. Что ж, вен-де-граф неважное вино из ренских: всего-то в полтину серебра бутылка, а для вас полтора рубля. У нас, сударь, всякие вина есть: бургонское самое лучшее, мадера-с, малага, что прикажете.
Василий Игнатьич задумался было, поверив на слово приятелю своему Сидору Яковлевичу, который уступал ему вина в полцены против Леве, и если б Прохор Васильевич был налицо, он бы тут же пугнул его за покупку дрянного поместья с кислыми винами; но, к счастию, ему кое-что пришло на мысль.
«Э! да какой я дурак!» – подумал он. – Знаю, брат, знаю, что есть у тебя и малажка и всякие иностранные вина, да русского изделия.
– Что-с? как-с?
– Да так, брат, чай бочки-то с ренским вином везут тебе из Крыма, а уж тут, брат, подсластить, да подкрасить сандальцом, да подпустить взварцу какого ни на есть не штука.
– Так что ж такое, Василий Игнатьич, – произнес с обидой Сидор Яковлевич, – уж коли в иностранных землях что делают, так нам и не делать; а на что ж, сударь, наука? Известное дело, что ренское вино цельное родится везде только белое да красное, а уж другого не бывает. Да куда ж, сударь, цельное-то годится? Если не фабриковать его, так что в нем? Ординарное или, так сказать, столовое, вот и все: и кисло и без всякого запаху, да и крепости никакой. Надо правду сказать, что французы мастера фабриковать: по сю пору все вина до единого идут под названием французских; «погреб французских вин», да и кончено-с; а тут и немецкие и италиянские, только вот аглецких вин совсем нет-с, потому что народ такой, способности нет. Портер аглецкой да пиво, вот их дело. Так изволите ли видеть, до сих пор французы в секрете держали, как фабриковать и малагу-с, и фронтиньян, примером сказать, и дремадеру-с, шампанское, и разные сорты, ну люнель и еще, как бишь его… да вот несколько лет случилась там революция-с, то есть вот как в животе бывает – перессорились все да передрались; вот-с и понесло их – кто куда. И развелись фабрики; секрет-то открылся; а теперь уж в книгах печатают; как и шампанское делать и малагу-с, а вен-де-граф…
– Нет, брат, нет, морочишь, Сидор Яковлевич! ей-ей не поверю. Вен-де-граф, брат, так уж вен-де-граф; его только на месте и делают; а это черт знает что!
– Как угодно, Василий Игнатьич; да извольте потребовать другого винца.
– Нет, нет, спасибо; прощай покуда!
– Да позвольте отпустить с вами бутылочку хоть вот венгерского.
– Нет, нет, брат, спасибо; прощай покуда!
– Да вам, может быть, дорого показалось? для вас мы за свою цену уступим: по рублю бутылка.
– Нет, нет, брат! Вен-де-граф по рублю бутылка! Настоящее французское вино по рублю бутылка! – прикрикнул Василий Игнатьич, остановись вдруг в дверях, – пьфу! да я тебя знать не хочу! нашел дурака! надувай, брат, телячью шкуру, а не меня!
И Василий Игнатьич, гневный, отправился из погреба иностранных вин в магазин иностранных вин и потребовал бутылку вен-де-графа.
– Да послушайте, – сказал он, бросая ассигнацию в пятьдесят рублей серебром, – мне дайте настоящего, а не поддельного, что хотите возьмите, хоть сто рублей за бутылку, только уж настоящего!
Гордый комми[136] не отвечал ничего Василию Игнатьичу, а, приказав завернуть бутылку, вычел, ни слова не говоря, два рубля пятьдесят копеек за вино.
– Так в два с полтиной-то настоящее? – сказал Василий Игнатьич, сосчитав деньги.
– Настоящее, – отвечал комми.
Приехав домой, он нетерпеливо потребовал штопор и рюмку, раскупорил бутылку, налил рюмку, посмотрел на свет, хлебнул и плюнул.
– Где Прохор? позови его ко мне! – В это время наш Прохор Васильевич был в раздумье; получив билет на двадцать пять тысяч от Василия Игнатьича, он вздохнул, стал тосковать о Киевской и Подольской губерниях, где жизнь его текла привольнее, ничто не связывало, ни чин, ни звание, ни состояние, где просто величали его пан Дмитрицкий, и где как ласточки кружились около него панны, где паны предлагали ему ставить на карту деньги, а панны сердце.
«Раздолье! – подумал он, – что, не опять ли туда? а? Васенька, что скажешь? Говори же откровенно, что, хочется? Да нельзя, душа моя, ведь ты теперь Прохор Васильевич. Во-первых, мошенник Тришка приставил к тебе дядьку, который не выпустит добром из Прохоров Васильевичей, а во-вторых, тятенька такой добрый, так заботится о тебе… Вот женишься, дело Другое: возьмешь в приданое миллион; тогда можно подумать об отставке, а теперь что: дал тятенька двадцать пять тысяч в задаток на покупку именья во Франции, а не знает того, что у тебя еще в России тьма необходимых расходов. Половину надо отдать бедному заключенному на расходы по делу его; а остальные в пользу бедного человечества; притом же надо как-нибудь рассеять тоску; сам ты знаешь: не легко человеку, имеющему понятие о жизни, быть Прохором Васильевичем. На такую роль нельзя согласиться без полного бенефиса. На бенефис мы дадим «свадьбу», а потом подумаем, что предпринять дальше. «Женишься – переменишься», пословица говорит; а я, любезный друг, душевно желал бы, чтоб ты остепенился, получил оседлость, заслужил у добрых людей честное имя, принес хоть какую-нибудь существенную пользу человечеству. Человечество, мой милый, бедно, любит существенную пользу и всякого рода приношения. Ты можешь и самого себя и всех ближних и дальних лишить чего угодно и облаготворить человечество, и это будет и честно и справедливо. И в самом деле, чего жалеть какого-нибудь гнусного, жирного, удобренного счастливца для несчастного, страждущего человечества? Не правда ли?…» – Эй! Конон! ты здесь?
– Да здесь же!
Из передней вошел слуга, вроде театрального черта, одетого в холопскую ливрею.
– Ты мошенник?
– Никак нет!
– Ну, так плут?
– Никак нет!
– Так ты, следовательно, честный человек?
– Отчего ж не честный-то, сударь: я у вас, Прохор Васильич, ничего не украл.
– Да отчего ж это, Конон, воры не любят, чтоб их называли ворами?
– Вор по улике; а как не уличишь, так какой же он вор. Да тот еще вор, кто не спросясь чужое берет; а я всегда спрашивался у своего хозяина. Как велит, так дело другое: я человек подвластный, кормлюсь жалованьем, что прикажет Трифон Исаич, то и делаю. Поди-ка у него не сделай, так он такую втулку подбоченит, что все сусло вытечет.
«Ого, – подумал Дмитрицкий, – с каким деловым народом черт свел меня!»
– Чу, Василий Игнатьич изволит спрашивать вас, – сказал Конон, – а Трифон Исаич приказал доложить, нельзя ли еще хоть столько же завтра получить.
– Скажи Трифону Исаичу, чтоб он до свадьбы не беспокоился.
И Дмитрицкий пошел к своему тятеньке.
– Пошел рыскать по Москве! Ох, Прохор, не люблю я этого! – сказал Василий Игнатьич, – что у тебя за поведенция такая!
– Напрасно, тятенька, не любите: я все хлопотал по вашему делу, насчет, то есть, покупки имения.
– Да что именья, черта ли именья. Я не хочу, брат, кислого графского вина! поди-ко-сь! десять тысяч бутылок, по два с полтиной в продажу! Выкинь из них за выделку, за провоз из-за границы, за бутылки да за закупорку, так того и смотри, что наживешь по гривне с бутылки! пьфу! На-ко, попробуй!
– Это уксус, что ли, тятенька?
– Нет, брат, не уксус, а твой вен-де-граф. – Это? это? помилуйте! Где это вы взяли?
– Купил в иностранном магазине.
– Гм! здесь вы хотите иметь настоящий вейн-де-граф! Да здесь и вкусу его не знают! По два с полтиной бутылка! Ха, ха, ха, ха! А на месте оно вдвое дороже. Знаете ли, за какое вино его продают здесь?
– Ну, не знаю.
– За лакрима кристи, потому что этого вина и самому папе на целый год недостает.
– Скажи пожалуйста! мошенники! то-то бессовестный народ! – воскликнул Василий Игнатьич с глубоким чувством негодования. – Так морочить добрых людей! Одно вино продавать за другое, да еще за какое! за лакрима кристи! Повесил бы, собачьих детей! ей-ей, повесил бы!.. Так ты говоришь, что вен-де-граф-то идет у них за лакрима кристи?
– Именно, тятенька; уж это я наверно знаю.
– Так достань, брат Прохор, попробовать. А почем продают они бутылку… как бишь?
– Лакрима кристи? Не меньше пятнадцати рублей крошечная бутылочка, не бутылочка, а пузырек.
– Да это вино, чай, как лекарство, пить можно по рюмочке от разных болестей?
– Разумеется, тятенька.
– А бутылка вен-де-графу-то что нам будет стоить на месте?
– На месте? не больше рубля серебром.
– Ну, да положим за провоз рубля хоть полтора с бутылки, всего-то пять рублей; а они катают пятнадцать! а? А сколько бутылок вина можно выделать в графском-то именье?
– Тысяч двадцать в худой год.
– Скажи пожалуйста! ведь двести тысяч в год доходу! рубль на рубль! Послушай, Прохор, ты, брат, не говори никому, что мошенники-то продают настоящий вен-де-граф за… как бишь?
– Лакрима кристи.
– Да; а за вен-де-граф продают простое ренское; не говори никому. Уж они, канальи, так опозорили его, что не продашь Дороже двух с полтиной. Не нести же убыток; мы его так уж и будем продавать за… как бишь?
– Лакрима кристи.
– Да; так уж и будем. Не на нашей душе грех, черт с ними! А именья нельзя уступить.
– Разумеется, тятенька. Мы свой откроем погреб.
– Свой, непременно свой; не погреб, а магазин.
– А какое венгерское я умею делать из монастырского вина, знаете, что продается здесь по рублю бутылка, – просто чудо! Сам венгерский король не узнает, что не настоящее.
– Ой ли?
– Ей-ей! Еще не простое, а столетнее, которое продается червонца три за бутылку на месте.
– Что ты говоришь?
– Ей-ей!
– Ну, откроем, брат Прохор, магазин вин; я чайную торговлю брошу, черт с ней! От нее теперь нету никакой прибыли, а еще того и гляди, что беду наживешь: такая непомерная строгость, что боже упаси!.. Ну, да добро, молчи. Не пора ли нам к Селифонту Михеичу? Чай, ждут нас?
– Я готов.
– Ну, так поедем, – сказал Василий Игнатьич. – За невестой, Прохор, миллиона на полтора будет… Вот как женишься, так ты, брат, сам съезди опять за границу да поищи там, нет ли еще каких статей поприбыльнее.
– Я тоже об этом думал, тятенька. С деньгами там, знаете, каких секретов можно накупить!
– Хитрой там народ живет, подумаешь!
– У, что наш народ против тамошнего, – овца!
– Овца, ей-ей овца!
– Овца, тятенька; а пора уж, кажется, чтоб чужие волки не драли с нас шкуры!
– Ей-ей так! – воскликнул Василий Игнатьич, разгораясь более и более злобой на промышленных иностранцев.
– Пора, тятенька, своим завестись.
– Ей-ей так, брат Прохор!
Рассуждая таким образом, Василий Игнатьич подъехал с сыном к палатам Селифонта Михеича.
VIПрямая русская хозяйка сохранилась только в простом быту. Это не хозяйка-барыня и уж далеко не хозяйка-дама. Известно, что когда иная хозяйка-барыня готовится принимать гостей, тогда дым идет коромыслом: тот беги туда, та сюда, то подай, того не подавай; то поставь, другое вынеси; тут вычисти, здесь вымой, там подотри! И во все углы мечется она сама, хлопая истоптанными башмачками, которые служат вместо туфель. Иначе и нельзя: это шаг от так называемого невежества к так называемому просвещению. Новый порядок всегда смешной порядок. Бывало, в доме все вековое, каждой вещи своя честь и свое место, будни не мешайся с праздником; а теперь иной толк, иной вкус, как во времена татар. Как водится, недовольные своим первые бросаются встречать и принимать чужое; собственно трусы торопятся подражать, а храбрецы бороться, по старой памяти: лучше пасть, чем идти в полон, даже к французам.
Хозяйка-дама, это уж что-то не свое, это уж, собственно, не хозяйка, а что-то такое, чему теперь на Руси и имени еще нет, а в старину, во время немецкого нашествия называли просто фря, откинув от gn?dige Frau[137] прилагательное.
Марья Ивановна была хозяйка старого быта, но вчерне: у ней на все случаи были запасы; гостиные комнаты чистехоньки. Не только муха, но и пылинка не садись в них на почетную мебель, да и сама Марья Ивановна со всей семьей не присядет, из уважения к своим гостям, на гостиные кресла; она заботливо всех обходит, угощает чем бог послал, разве иногда присядет на кончике подле какой-нибудь сударыни-матушки Анисьи Ивановны, сложит ручки, поахает о чем-нибудь, да и снова пойдет обходить с радушным возгласом: «Да что ж это вы не изволите кушать, или уж нам счастья нет! да выкушайте на здоровье, да хоть пригубьте!»



