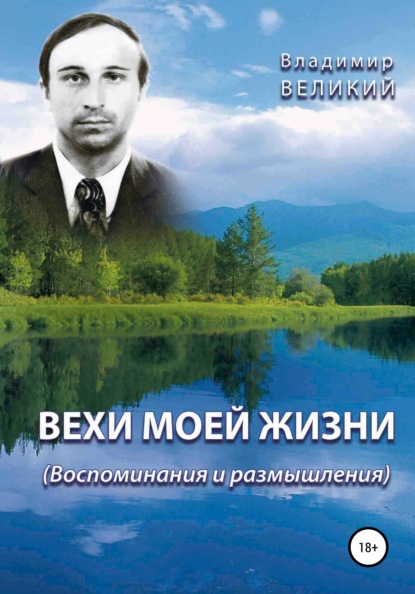 Полная версия
Полная версияВехи моей жизни
Не отрицаю, что всем известная присказка, какой солдат не мечтает быть генералом, для юноши из глухой сибирской деревни не была пустым звуком. Он также думал и надеялся на получение больших звезд. Для этого определенная база была. В школе он учился только на хорошо и отлично. Военное училище закончил без троек. Вместе с тем, я не был глупым человеком. Большинство моих сокурсников также мечтали о больших звездах или о красных лампасах. Жизнь вскоре все расставила на свои места. Во многом наши мечты оказались наивными, даже детскими. Армия, притом любого государства, не может состоять только из одних генералов. В армии я стремился быть человеком, порядочным офицером. Исходя из своих жизненных принципов, я верил в торжество справедливости. Я ни перед кем из офицеров, независимо от их должности, не заискивал, не лебезил, не привирал. Стучать каблуками хромовых сапог перед начальником считал неприличным занятием, что не красит военного интеллигента.
В связи с этим воспоминается эпизод из службы в ГСВГ. Начальник штаба мотострелкового батальона, в котором я служил, в телефонном разговоре с командиром полка или с его заместителями, как попка, с очень короткими промежутками времени очень громко кричал: «Так точно, товарищ полковник» или «Все будет исполнено, товарищ полковник». Бывало и такое. Зная о том, что майор занимает должность «подполковник» нередко говорил: «Так точно, товарищ подполковник». Завершение разговора было неизменным. Подчиненный опускал трубку аппарата вниз и очень громко щелкал каблуками офицерских сапог.
Позиция самостоятельного офицера, к моему удивлению, нередко обходилась мне боком. В офицерское кафе я ходил очень редко, потому что вел трезвый образ жизни. Иногда мне было даже в нем противно сидеть, когда видел вдрызг пьяных начальников или подчиненных. В курилках светился также редко, причина была опять благородная – не курил. Не вредил своему здоровью, ведь Советской Армии нужны здоровые люди. Не курю и до сих пор. В принципе молодой офицер старался все делать по уставу, на деле выполнял требования морального кодекса строителя коммунизма.
Вместе с тем, у меня были и недостатки. Они проявлялись в том, что с чиновниками, которые были выше меня по должности, я не всегда соглашался с их ценными указаниями. Они, как правило, не только дублировали решения ЦК КПСС или партийного съезда, но и разбавлялись идеями, которые вырабатывало серое вещество, находящееся в их головах. Через призму прошедших лет я вновь и вновь убеждаюсь в правоте своих доводов, которые я выдвигал в свои молодые годы. Молодому офицеру было противно слушать «ЦУ» заместителя командира полка по политической части, который довольно часто не появлялся на службе. Мой шеф любил спиртное, был завсегдатай ресторанов или пивнушек. Вполне возможно, зарабатывал дешевый авторитет среди офицеров и прапорщиков.
Поражала меня и грубость вышестоящих начальников, особенно, командиров. Мне казалось, что без мата или другой неприличной брани они вообще не могли управлять подчиненными. К сожалению, матерные слова были в лексиконе и некоторых политработников.
Не исключением этому были и генералы. Мне до сих пор помнится случай, который произошел со мною во время дивизионных учений. Одна из боевых машин пехоты не заводилась, несмотря на неоднократные попытки это сделать. Зампотеха роты не было, он был в отпуске. Я по собственной инициативе остался с механиком, тем более, эти учения для него были первыми. Я же прекрасно знал маршрут движения своего полка и батальона. Неожиданно перед окопом появился командирский УАЗ, и из него с перекошенной от злобы физиономией, выскочил генерал в защитной форме одежды. Вместо того, чтобы поинтересоваться, что случилось с машиной, он стал размахивать кулаками передо мною и покрывать меня отборной матерщиной. Я стоял по стойке «смирно» и молчал. Прекрасно знал, что этот солдафон с красными лампасами в эту минуту способен на все. Какого-либо страха у меня не было. Иное состояние было у механика-водителя, который высунув голову из люка, почему-то неистово дергал головой. К счастью, головомойка командира танковой дивизии была скоротечной. К окопу подъехал другой УАЗ и незнакомый мне генерал взмахом руки позвал к себе подчиненного. Скорее всего, это был руководитель учений. Я с облегчением вздохнул. Минут через десять боевая машина пехота взревела и где-то через час нам удалось догнать основные силы батальона.
И еще один пример из моей жизни, связанный с бескультурьем, с бестактностью чиновников с лампасами. Зима. Либерозский полигон. Дивизионные учения. Для меня, старшего лейтенанта, заместителя командира батальона по политической части – это было первое боевое крещение в новой должности. Батальон получил приказ – срочно выдвинуться на исходную позицию. Предстояло пройти пять километров в походной колонне, затем развернуться в боевую линию. Почти одновременно взревели двигатели боевых машин пехоты, и вся местность вокруг погрузилась в пелену пыли, дыма и грязи. Через некоторое время колонна выскочила из-за леса и стала разворачиваться в боевую линию. В боевой порядок. И тут же мотострелки оказались перед огромным зеленым полем, на котором росла озимая пшеница. Внезапно раздался громкий голос командира батальона, капитана:
– Я, Орел – 1… Стой! Стой! Стой!
Услышал эту команду в наушниках своего ларингофона и я, что для меня было полнейшей неожиданностью. Весь личный состав батальона знал, что на специальном возвышении, в километре от полосы наступления, стояли два очень больших начальника – Главком и начальник политического управления ГСВГ. Я не выдержал, и открыв люк бронетранспортера, высунул голову наружу. Комбат уже сидел на башне. Увидев своего заместителя, он прокричал:
– Комиссар, смотри… Это же немецкое поле с озимой пшеницей…
Я внимательно посмотрел вниз перед собою и утвердительно кивнул головой, затем плотнее прижал наушники к своим ушам. Из них раздался хриплый голос командира полка, полковника:
– Орел – 1, почему стоишь? В атаку, вперед! В атаку, вперед!
Командир батальона тут же ответил:
– Главный, я – Орел – 1. Перед нами немецкое поле с озимой пшеницей… Я принял решение обойти его стороной…
В сей миг раздался властный голос:
– Я приказы-в-а-а-а-ю… Только вперед… Орел – 1, я приказываю, вперед…
В наушниках внезапно что-то зашумело, затем раздалась отборная матерщина…
Через несколько мгновений три десятка боевых машин пехоты стремительно рванулись вперед. Затем раздалась команда: «К бою!»
Мотострелковый батальон после успешного выполнения поставленной задачи расположился в указанном районе. Комбат и замполит стояли вдвоем и обсуждали итоги очередного дня учений. Неподалеку от них перешептывались командиры рот. Внезапно к офицерам подбежал сержант, связист. Он остановился, и тяжело дыша, прокричал во всю глотку:
– Товарищ капитан, товарищ капитан… К нам едет командирский УАЗ… Наверное, генерал или полковник…
Командир батальона улыбнулся, и приложив руку к головному убору, спокойно ответил:
– Все понятно… Спасибо за информацию… А кто генерал или полковник, я сам разберусь…
Через пару минут к колонне боевых машин подрулил УАЗ и из него выскочил генерал. Среднего роста мужчина рванулся к группе офицеров, и махая руками по сторонам, хрипло прокричал:
– Где командир? Я спрашиваю, где командир?
Офицеры почти по команде приняли строевую стойку и также почти одновременно протянули руки вперед, в сторону головной машины. Увидев двух офицеров, генерал подскочил к капитану, и махая кулаками перед его физиономией, с пеной на губах прорычал:
– Капитан, кто тебе давал приказ по немецким полям ездить? Кто давал приказ, я спрашиваю?
Офицеры управления батальона, стоявшие по стойке «смирно», сначала не могли понять, почему какой-то генерал осмелился наводить порядок в их подразделении. Никто из них не знал этого генерала. Первым, как и это было положено по уставу, открыл рот командир батальона. Он несколько дрожавшим голосом по-военному отчеканил:
– Товарищ генерал-майор… Я выполнял приказ командира полка..
. Едва он перевел дух, как вновь раздался властный голос неизвестного начальника:
– Я не хочу знать, чей приказ ты выполнял… Мне по х… Почему ты поехал по полю? Отвечай, капитан…
Комбат тяжело вздохнул и вновь повторил:
– Я, товарищ генерал, выполнил приказ старшего начальника… Его приказ – закон для меня, особенно, в период учений…
Я тем временем рассматривал генерала, который неизвестно откуда появился. Никто из полкового начальства не предупреждал, что на учениях появится новая шишка, притом большая. Как правило, солдаты, не говоря уже об офицерах, если не знали больших начальников в лицо, то, наверняка, их фамилии оставались в их головах или заносились в записную книжечку. Передо мной стоял холеный мужчина, лет сорока пяти, возможно, и чуть старше. Русые, слегка вьющиеся волосы, выглядывали из-под его фуражки с черным околышем. Брови, непонятно какого цвета, скорее всего, от злости или от рождения, едва не соприкасались друг с другом…
Я на какой-то миг повернул голову в сторону и тут же раздался голос генерала:
– Ну, а ты, старший лейтенант… Почему ты не знал, что нельзя портить народное добро нашего союзника?
Я слегка приподнялся на носках, и подав грудь вперед, четко представился. Затем перевел дух, ответил:
– Так точно, товарищ генерал, я знал. Знали и мои подчиненные…
Несколько пространный ответ политработника почему-то разозлил генерала. Он почти вплотную подошел ко мне и сквозь зубы процедил:
– Все знают, но н никто не выполняет… Я так понял, отцы-командиры?
Я не выдержал, решил сказать правду. Я сжался в единый комок, слегка облизал пересохшие губы, затем произнес:
– В стороне от нашего батальона находилось командование нашей Группы войск… Мы обязаны были выполнить их приказ…
Неожиданное умозаключение младшего офицера наповал убило генерала. Он тихо вскрикнул, и задыхаясь не то от злобы, не то от недостатка воздуха, еле слышно прошипел:
– Ну, щенки, ну, молокососы… Я, я-я значит не начальник, не командующий армией…
Генерал не стал больше тратить нервы на бестолковых офицеров.
Он повернулся в сторону УАЗа, и взмахнув рукой, прокричал:
– Локотков, ты что сидишь, как убиенный? Беги ко мне… И не забудь тетрадь… Быстрее…
Из машины выскочил тощий прапорщик. Он был такой худой, что казалось, будто его только сегодня выпустили из концлагеря. В руках у него была небольшая папочка черного цвета. Он мчался к начальнику, словно лань, и одновременно на ходу очень громко бубнил:
– Бегу, товарищ командующий… Бегу, товарищ генерал…
Я немного успокоился и слегка улыбнулся. Я прекрасно знал, что кое-кто из советских генералов кривил нос, когда называли их воинское звание. Слово «командующий» им куда больше нравилось и грело душу, чем слово «генерал». Командующий один, а генералов много. Ординарец подбежал к генерал-майору и услужливо произнес:
– Я готов записывать, товарищ командующий… – Затем открыл папочку, взял авторучку и преданными глазами уставился на мужчину, у которого, скорее всего, начался нервный тик.
Генерал поднял указательный палец кверху и с некоторой ехидцей в голосе прошипел:
– Я покажу этим воякам кузькину мать… Я покажу, кто здесь начальник…
Офицеры управления батальона, стоявшие по стойке «смирно», чем-то походили на истуканов. Они даже не дышали. На вопросы худощавого отвечали, как заводные. Никто из них не сомневался в том, что служебное несоответствие каждому из них обеспечено…
Прапорщик, записав фамилии и должности офицеров, рванулся к машине. И тут с ним произошло непредвиденное. Едва он сделал пару шагов вперед, как откуда ни возьмись, из-под земли появился не то сук, не то не остаток черенка большой саперной лопаты. Служивый пару раз споткнулся и тут же растянулся на земле. Первым пришел на помощь пострадавшему командир батальона. Он обеими руками приподнял бедолагу из придорожной грязи и еле слышно его спросил:
– Гвардеец, скажи, как звать твоего шефа?
Прапорщик, как только очутился на ногах, несколько мгновений был в растерянности. Он, конечно, не думал, что среди белого дня, да еще перед своим шефом, так оконфузится. Он отряхнул с себя небольшие комья грязи и с несколько унылым выражением лица прошептал:
– Генерал Похлов, товарищ капитан…
Затем ринулся к машине и тут же остановился, как вкопанный. Генерал сидел за рулем машины, из его уст лилась отборная брань. Тощий подошел к начальнику несколько позже. Дал ему возможность «высказаться» до конца.
Батальон за учения получил хорошую оценку. Посредник также отметил хорошее политическое обеспечение. Однако это не очень радовало управленцев войскового подразделения. Они страшно переживали о том, что случилось с ними на Либерозском полигоне, возле немецкого поля с озимой пшеницей. Прошло полгода. Тревога молодых офицеров за свою карьеру постепенно угасла. Вскоре «ЧП» осталось у них только в воспоминаниях. Скорее всего, большой начальник слишком вскипел, а может, просто-напросто забыл об этом курьезном случае…
Десятилетняя служба в армии, как и последующая гражданка, не изменили мое мнение о советских генералах. Военные чиновники с большими звездами на погонах – специфическое гнездо, каста, истоки которой берут свое начало еще с царских времен. Молодой человек из рабоче-крестьянской семьи, будь у него хоть семь пядей во лбу, никогда не станет генералом. Если станет, то, как правило, исключение. Притом редчайшее. Всевозможные байки о социальном равноправии или равных возможностей в Советской Армии – есть ничто иное как ложь, бред сивой кобылы. Я довольно внимательно прослеживал карьерный рост некоторых отпрысков высокопоставленных вельмож и неоднократно приходил к к одному и тому же выводу. Советский генералитет – это сынки номенклатурщиков, которые «страшно далеки от народа».
Кое-кто из читателей может мне возразить, ведь чиновники с «волосатыми руками» или «больные» также были молодыми лейтенантами. Кое в чем я согласен. И у них были «армейские дыры», но все это было наскоком, во многом это делалось специально, чтобы в будущем они предстали поистине рабоче-крестьянскими генералами, выходцами из трудового народа. Нечто подобное было и на гражданке, в среде партийно-советской элиты. «Избранным» прощалось все и вся. Пьянство, воровство, очковтирательство, рукоприкладство и многое другое. Прощались им и низкие показатели в боевой и политической подготовке, дедовщина. В итоге их переводили в другую часть и, как правило, с повышением.
«Соревноваться» по службе с сынками партийно-советской олигархии бессмысленно, даже хоть ты и по всем статьям выиграешь. Все равно победителя в конечном счете определяла Москва, куда реже командование военного округа.
Я уже давно усвоил простую истину, будучи еще курсантом, что если в условиях войны (экстремальных ситуациях), как правило, на высокие должности поднимает людей сама жизнь, то в условиях мирной жизни (повседневной службы) продвижение офицеров определяют кадровые органы, которые имеют довольно полную информацию о кандидате на вышестоящую должность. Деловые и политические качества подопечного в принципе ничего не стоили. В этих условиях играют совершенно другие критерии: протекция, уровень элиты, умение угодить начальнику, взятка… Далеко не последнюю роль в карьерной росте офицера также играют материальные и финансовые возможности жены, родственников.
Коррупция власти – раковая опухоль любого общества. Незаконное получение, продажа должностей (право на управление людьми) не дает возможность порядочным людям сделать честную служебную карьеру, так как каждый бюрократ (государственный преступник) продвигает «своих» – лояльных и зависимых. Армия, в которой господствуют родословные отношения, семейственность, в конечном счете, не способна выполнить свое историческое предназначение – вооруженная защита завоеваний народа. Она обречена на поражение.
Несколько слов об офицерах из рабоче-крестьянских семей, которые стремились стать генералами. Таковых было очень много. Кое с кем мне по службе приходилось сталкиваться. Мне было больно и одновременно противно видеть, как молодые люди, не имеющие чести, достоинства и совести, но умеющие ненавязчиво сделать презент нужному человеку неплохо продвигались по служебной лестнице. Взятки были разнообразные. Одни водили в ресторан, другие дарили сервизы или ковры, третьи до безумия лицемерили. Притворные добродетели были и в моем мотострелковым полку.
Мне было смешно видеть, как полковой комсомолец, на груди которого был значок «ВУ», что означало «Взводным умру», ради получения очередной должности из кожи вон лез перед своим шефом – замполитом полка. «Чубчик», так прозывали лицемера офицеры полка, скорее всего, исполнял обязанности ординарца при седом майоре. Он всегда был на подхвате. В жаркое лето, едва шеф вытирал свою лысину, с улыбкой брал у него фуражку с красным околышем и с усердием ее держал на своих руках. Нередко носил и его саквояж, до отказа набитый всевозможными брошюрами. Не забывал подхалим и о подарках для шефа. Это, как правило, происходило во время прибытия из отпуска или по возвращению с мероприятий с немцами. Комсомолец был там завсегдатай. Мало того. Подчиненный был без ума от ценных указаний своего шефа. Едва майор открывал рот, бывший командир взвода тут же брал свой блокнот и, сделав серьезное выражение лица, с умным видом записывал поистине «исторические» слова полкового политработника.
И еще один тезис в Советской Армии. Не отрицаю, что в ней, к сожалению, были и абсолютно бестолковые офицеры, были и пьяницы. Стружку снимать с подобных было бесполезным занятием. Начальство прибегало к необычному способу, который довольно часто использовался в Советской Армии. От несообразительных или пьяниц, как можно быстрее избавлялись. Их отправляли в соседний полк, как правило, на повышение.
В связи с этим, напрашивается вопрос? Все же что объединяло людей с погонами на плечах многие годы? Чувство долга перед Родиной или просто-напросто страх потерять возможность для выживания в советском обществе? Ни для никого не секрет, что молодые офицеры питали надежду на реализацию своих целей, а тем, кому это сделать не удалось, до конца службы тешили себя солидной пенсией на гражданке. Скажу однозначно. Офицеров из рабоче-крестьянских семей в большинстве своем преследовал страх, что они могут остаться без средств существования на гражданке. Мало того. Советская власть прекрасно знала о желании многих офицеров покинуть армию, но очень крепко держала их в своих руках. В противном случае, некому было защищать интересы советского народа, точнее, партийной элиты. Многие офицеры, разочаровавшись в службе, продолжали тянуть волынку, ждали выхода на пенсию. Подобная ситуация не способствовала проявлению у них лучших человеческих качеств, скорее, наоборот. Превалирование таких негативов, как зависть, озлобленность, недоверие, равнодушие, безразличие отрицательно сказывались не только на уровне боевой и политической подготовки подразделений, но и во многом разрушало офицерские семьи. Уволиться по собственному желанию, как это часто делалось на гражданских предприятиях или в учреждениях, в армии было невозможно. В мои годы офицеры не подписывали каких-либо контрактов, но существовало неписаное правило. После 25 лет службы те, кто имел «нормативное» звание и должность, имел право уволиться и получать пенсию. Уволиться по закону, с присущими торжествами. Уволиться «досрочно» можно было только двумя путями – через тюрьму (дисциплинарный батальон) или через суд офицерской чести. У обоих вариантов было общее – в принципе ты получал «волчий билет», согласно которому ты лишался пенсии (источников существования) и не мог устроиться на приличную работу. На деле ты был изгой советского общества. Дисциплинарному наказанию, как правило, предшествовало партийное наказание. До 95 процентов офицеров Советской Армии были членами КПСС. Беспартийные офицеры, даже честно исполнявшие свои служебные обязанности, имели мизерные возможности для карьерного роста.
В то же время нельзя сказать, что такие понятия как государственный, интернациональный долг были для советских офицеров абстрактным понятием. Основную массу офицеров характеризовали такие качества, как идейность, осмысленность и самоотверженность в службе. Эти качества они впитывали ещё в школах, затем их развивали в высших и средних военных учебных заведениях. Подобные качества были присущи и многим членам семей военнослужащих. Составной частью единого армейского организма были коллективизм и сплоченность воинских подразделений. Единство всех наций и народностей. Эти качества прошли суровое испытание в годы Великой Отечественной войны Советского Союза 1941–1945 гг., в афганской войне 1979–1989 гг, в других горячих точках.
Нельзя забывать и то, что советские офицеры и солдаты, несмотря на имеющие трудности и опасные моменты для своей жизни, с честью выполняли свой воинский долг. При этом получали мизерное денежное довольствие, которое несравнимо с армиями ведущих стрна мира. Любая армия не может профессионально исполнять свои функциональные обязанности, даже имея в своем арсенале передовые идеи, если она нищая.
В этом убедился на своем горьком опыте и автор. И не только я, тысячи мне подобных. Во время службы на советско-китайской границе военнослужащих мучила жажда. Причина этому была нехватка воды. Далеко не идеальные условия службы были в Среднеазиатском, Закавказском военных округах. Мне в те годы молодому человеку переносить климатические или житейские проблемы было куда легче, чем женам офицеров и прапорщиков, их детям. Где бы я не служил – одна проблема. Нехватка жилья. Поэтому говорить о каком-либо полноценном отдыхе офицера, членах его семьи не приходится.
И еще о жизни офицеров. «Служебный день» у большинства должностных лиц армии не нормированный. Он начинался, как правило, с раннего утра до позднего вечера. Выходных не было. Ради справедливости, скажу следующее. Они могли и быть, ежели бы не самодурство отцов-командиров. Карьера офицера, особенно из среды рабочих и крестьян, в том числе и его семейная жизнь, во многом определяется не количеством мозговых извилин на его голове или его боевой подруги. Она определяется, в первую очередь, от головы, части тела, состоящей из черепной коробки и лица, его начальника. Дураков со звездами в Советской Армии в мои времена хватало. Вдвойне было тяжелее, если они еще и пьяные.
Очередной пример из жизни моего мотострелкового полка, который дислоцировался в г. Бернбург (ГДР). Был летний воскресный день. Командир танкового батальона отпустил в город своего командира взвода. Одним словом, предоставил ему своеобразный отгул. Для этого была веская причина. У близнецов-дочерей подчиненного был день рождения. Им исполнилось шесть лет. Жена и дети давно мечтали посетить немецкий зоопарк только с папой, который очень редко бывал дома. Если и приходил, то, как правило, малышки уже спали. После зверинца семья зашла в небольшой ресторанчик. Сделали заказы. Детям сладости и лимонад, взрослым – вино и сосиски. Затем направились на речку Заале, покупались, стали загорать. Через некоторое время к отдыхающим прибежал посыльный. Он известил: командир полка срочно вызывает всех офицеров на построение, на строевой плац. Офицер не стал объяснять солдату, что у него сегодня большой семейный праздник. Неписаные законы армии он знал, знала и его жена. Семья к контрольно-пропускному пункту части подошла далеко не в идеальном виде. Девочки канючили и плакали. Они не понимали, почему их родители не дали им погреться на солнышке и поплескаться в воде. Взрослые тоже были не в форме. Жена офицера то и дело украдкой вытирала слезы, которые предательски бежали из ее глаз в присутствии дежурной смены. Лишь офицер крепился. Подобные заморочки были для него не впервой.
Дальнейшие события развивались по обычному сценарию, который преобладал практически во всех частях и подразделениях Советской Армии, независимо от округа или часового пояса. Едва гражданские оказались неподалеку от строевого плаца, как до них донесся мощный голос командира полка. Плешивый верзила с огромным горбатым носом, стоявший на трибуне, зычно прокричал:
– Гудков, почему ты не на службе? Я приказываю, немедленно на построение… Я приказываю тебе, старший лейтенант…
Попытка молодого человека, одетого в цивильную одежду, объяснить создавшуюся ситуацию, успехом не увенчалась. Полковник спрыгнул с трибуны, и словно тигр, бросился к гражданским. Сначала воспитывал своего подчиненного. Чего только в лексиконе военного вельможи не было?! Затем угрозы и отборная матерщина обрушилась на женщину, мать двоих детей. Вскоре наступила развязка. Офицер стремительно рванулся в сторону своего батальона. Его жена со слезами на глазах повела детей к одноэтажному дому, в небольшую однокомнатную квартиру. Малышки то и дело вырывались из рук матери, плакали и кричали:



