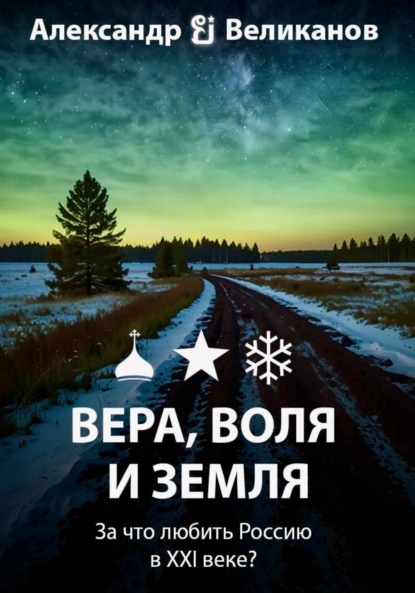
Полная версия:
Вера, воля и земля
Выросло не одно, а сразу несколько поколений, для которых «лучше не видеть ничего русского». Воспитанных среди идеологического вакуума и вражеской пропаганды. Поколений, говорящих не по-русски, а на валюпюке из неправильно произнесенных английских слов. Лишенных веры, лишенных национальных гордости, одержимых карго-культом.
Сердце нашего народа глубоко ранено. Мы все тяжело больны – смердяковщиной, чувством своей неполноценности, преклонением перед заграницей. Наши враги десятилетиями распространяют и усиливают эту болезнь.
Русофобия среди самих русских – наш коллективный грех. Нужно трудиться постоянно, по капле выдавливать из себя Смердякова. Каждый день давить в себе эту гадину.
Есть ли у нас вообще надежда в этой борьбе с разложением? Мощь вражеских медиатехнологий, их громадные бюджеты и глубина наших коллективных травм, на которых играют подонки по обе стороны океана, – все это периодически повергает меня в уныние. Мы, конечно, будем бороться до конца, но каков будет этот конец?..
Все же тут у нас есть мощная надежда. Та же надежда, что всегда поддерживала русского мыслящего человека. Надежда на душу народа.
Смердяковская гниль проникла в так называемые продвинутые, обеспеченные слои общества, прежде всего в богему и ИТ-среду, в жителей Москвы и больших городов. Но чем больше я путешествую по России, тем больше убеждаюсь – в глубинке, среди того самого народа, все по-другому. Очень по-другому.
Несколько лет я прожил в Красной Поляне недалеко от Сочи, где в начале 20-х образовался филиал Москвы посреди Кавказа. Там я балдел от горной природы, там было удобно жить благодаря инфраструктуре, оставшейся после Олимпиады. И там у меня остался очень неприятный осадок от общения с «модной» и «продвинутой» публикой.
Из всех воспоминаний о тамошней социальной среде есть едва ли не единственное приятное. Шли первые дни СВО, я был в шоке, как и все вокруг. Некоторые впадали в панику и предрекали, что Россия перестанет существовать через пару месяцев. Я на время просто отключил все информационные каналы – голова была на грани того, чтобы лопнуть. Тем не менее нужно было продолжать жить – вот и я шел из магазина, тащил домой 4 пятилитровые канистры с водой.
– Ого, сколько ты минералки пьешь! – поразился какой-то мужичок в спецовке, лет за 40, присевший отдохнуть на бордюр. – Набрал бы лучше в роднике.
– В каком роднике? – не понял я. – Где он?
– Ты чё, не местный? – спросил мужик.
– Не, я из Владивостока.
– О! А я из Уссурийска! Может, по сто грамм?
– А есть?
Он достал бутылочку какого-то дешевого псевдоконьяка. В те дни было как раз то, что надо.
Пригубили. Помолчали. Оказалось, мой новый знакомый работает в бригаде асфальтоукладчиков, что как раз чинила дорогу перед магазином. Объявили перекур, вот он и сел расслабиться.
– Чего творится-то… – проговорил мой собеседник.
– Угу, – только и нашелся я, зажмурившись после глотка.
– Страшно? – спросил он.
– Страшновато малость, – признался я. – А главное, непонятно. Но нужно взять себя в руки… Больше даже не знаю, что сказать.
– А и нечего болтать лишнего. Главное – не трусить.
Это были самые разумные и мужественные слова, которые я услышал в те бурные дни.
Больше о тяжелом не говорили, распили двести грамм и распрощались – мне уже звонила жена, не понимая, куда я пропал по пути в магазин за углом.
Ту встречу я счел важным напоминанием. Россия – это не хипстеры из кофеен, не интернет-паникеры, не жирующие московские мажоры, которым стыдно быть русским. Россия – это такие, как мой случайный собутыльник. Миллион человек бросил свою страну, но ведь есть сто с лишним миллионов тех, кто остался. Кто, несмотря на годы сводящей с ума русофобской пропаганды, решил бороться за страну, каждый в меру своих сил. Для кого главное – не трусить.
Героизм наших людей на фронте, людей, которые часто даже среди своих сограждан не находят понимания, а уж за границей покрываются проклятьями и клеветой, – все это для меня – свидетельство того, что яд не проник в сердцевину народа.
В рабстве спасенное
Сердце свободное —
Золото, золото
Сердце народное!12
Несмотря на десятилетия неоколониального рабства, народ, прошедший через страдания и унижения, через мощный процесс дерусификации, сумел сохранить себя.
Вот в это и остается верить.
Укрепленные этой верой, мы можем работать для преодоления смердяковщины в нашем обществе и в самих себе.
Как это сделать? Тут ведь недостаточно повторять мантры о наших великих свершениях в прошлом и настоящем. Мантры в принципе не работают. Нужно вести качественную работу по разрушению исторической клеветы, «черных легенд» о нашей истории, нужно бороться и с информационными и когнитивными атаками.
Но и этого мало. Нужно разобраться в том, что привело к эпидемии национального отречения, моральной гибели сотен тысяч. Нужно обратиться к нашим коллективным травмам и работать с ними.
И решение тут то же, что в случае с травмами в личной психологии, – принять то, что произошло, осмыслить и пережить, чтобы двигаться дальше. Нам предстоит долгий путь исцеления. Как скажет вам любой, кто проходил серьезные курсы лечения, борьба с недугом – это, прежде всего, долгий и тяжелый труд.
Начнем разбирать наше прошлое и настоящее в поисках причин. Чего-чего, а труда наш народ никогда не боялся.
Восставшие из пепла
В 2024 году вышел сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это драматичная история молодых людей в условиях повальной криминализации при распаде СССР. О достоинствах и недостатках сериала много спорили, но у немалой части зрителей «Слово» вызвало очень примечательную реакцию. Их отзывы начинались словами вроде: «Не могу смотреть. Не хочу возвращаться туда!»
Действительно для многих из нас период во время и сразу после крушения русского социализма – самый тяжелый, болезненный и жуткий этап жизни. В либеральной риторике это время умудрились обозначать как «святое», эпоху долгожданного освобождения от советского ига.
Вот только огромная часть нашего народа не хочет об этом времени даже вспоминать.
Я много лет изучаю историю Китая. В ней есть период, который сами жители Поднебесной называют «100 лет позора». В 1842 году, проиграв в первой Опиумной войне, империя Цин была вынуждена передать Гонконг англичанам, разрешить им беспошлинную торговлю и неограниченный ввоз опиума, обрекший тысячи людей на наркоманию.
На целый век Китай превратился в объект эксплуатации для западных держав. Его не только откровенно ограбили, использовали как источник дешевых ресурсов, рабочей силы и рынок сбыта. В сознание самих китайцев внедряли представления об их неполноценности перед «белыми господами». Жители КНР считают, что столетие унижений закончилось только в 1949 году, с приходом к власти Мао Цзэдуна, когда, наконец, их страна снова стала единой и суверенной.
Увы, нужно признать, что и в нашей недавней истории есть свой период позора – почти два десятилетия, условно с 1991-го по 2010-й. В эти годы Россия тоже была объектом эксплуатации, ее население намерено содержалось в нищете и невежестве, а либеральные прозападные элиты занимались разграблением страны.
Китайцы не стесняются своего «века позора», не пытаются его замолчать. Наоборот, о нем рассказывают каждому школьнику, чтобы он знал – этого нельзя допустить снова. А еще лидеры КНР припоминают его в разговорах с Западом: «Мы ничего не забыли».
Стоит тут поучиться у восточных соседей. Запомним навсегда наши «20 лет позора», все, что тогда творилось в стране и в умах людей. Запомним и никогда снова не допустим.
В 1991 году нам сломали хребет – страна, которую строили наши отцы, перестала существовать, бывшие братские народы стали проклинать «русских оккупантов». Был произведен систематический развал экономики, обанкрочивание предприятий, распил их и продажа за границу по бросовым ценам. Мы были внедрены в придуманную Западом глобалистскую картину мира, где нам отвели роль источника сырья, дешевой рабочей силы и места для секс-туризма.
Одновременно шла массовая идеологическая обработка – подрыв национального самоуважения, очернение нашего прошлого и унижение в настоящем. Любого, кто смел возразить, объявляли «совком» и «нациком».
Политолог Семен Уралов отлично описывает моральное падение постсоветского человека, последовавшее за развалом Союза:
«Советское общество накануне краха было очаровано западным образом жизни. И дело не только в широком ассортименте потребительских товаров. Некий обобщенный Запад воспринимался как потерянный рай: там настоящая жизнь, полная красок, а здесь – унылый серый “совок”. Настоящая свобода не у нас – в России даже картофель в мундире.
<…> Реальность удручала, а советское воспитание требовало идеализации.
Место веры в коммунизм как в идеальное общественное устройство заняла вера в “западнизм” как идеал. Следовательно, имелось два выхода – либо самому уехать на Запад, либо сделать Запад у себя. В этом ложном выборе скрыт моральный крах постсоветского человека, открытого сотрудничеству с колониальной или оккупационной администрацией».13
Главный корень разломов в нашем обществе, несомненно, тут. Кроме колоссального падения уровня жизни, крах Союза был, прежде всего, огромным моральным ударом по нашему народу, и последствия его мы ощущаем не меньше, а больше с каждым годом.
Последние 70 лет нашей истории, то, чему посвятили себя деды и отцы, да и сами тогдашние жители России, были объявлены «совком», антиутопией и «мордором».
А так как это было время величайших свершений русского народа, – Победы, полета Гагарина, освоения Арктики, культурных и научных прорывов – его отрицание стало ударом по самому народу, по всему, во что народ верил.
Тут психологическая причина массовой смердяковщины. Склонность к самоуничтожению свойственна некоторым типам личности, особенно людям, пережившим травмы. Это способ реагировать на боль, рационализировать ее. «Мне плохо не потому, что случилось что-то страшное, а потому что я такой плохой, это справедливое наказание…» Многим так легче переносить страдание.
Именно так многие из наших соотечественников отреагировали на коллективную травму – падение СССР. Они признали наши страдания и унижения заслуженными: «Нам плохо, потому что мы плохие». Служители противника отлично сыграли на этом, многократно повторяя, что все именно так.
Нам стали говорить о том, что Гагарин никогда не летал в космос. Что Вторую мировую выиграли США и Англия, а мы были лишь источником «пушечного мяса». Что Достоевский и Грибоедов были педофилами. Что мы веками убивали, оккупировали и мучили всех, кого только можно, а заодно и самих себя. Список таких «черных легенд», можно продолжать долго – все они давно развенчаны качественными трудами историков, но идиоты все равно обращаются к ним, как только нужно поругать Россию.
Было ли хоть что-то из тогдашнего медийного потока, что не убеждало нас в собственной ничтожности? Неужели никто не решил восстать против потока лжи? Попытки были, но… специфические.
Есть, например, знаменитый фильм – «Сибирский цирюльник». Но мало того что многим он показался неуклюжей попыткой восхвалять самих себя, он еще и был наполнен так называемым «хрустом французской булки» – это особое явление, о котором нужно поговорить отдельно. Ох уж этот «хруст»…
Фраза взята из песни группы «Белый орел» 1998 года (автор текста – Виктор Пеленягрэ):
Балы, красавицы, лакеи, юнкера.
И вальсы Шуберта, и хруст французской булки.
Любовь, шампанское, закаты, переулки…
Как упоительны в России вечера!
Это картина идеальной романтической жизни в Российской империи. (Хотя чего хорошего в наличии класса лакеев?..) В «России, которую мы потеряли», как был назван еще один фильм с претензией на патриотизм. Начиная с 90-х «хруст» стал звучать в России отовсюду.
Казалось бы, что плохого в ностальгии по имперским временам? Среди ужаса и унижения 90-х это было хоть какое-то утешение – хоть когда-то мы жили хорошо.
Сама по себе любовь к царским временам, несомненно, отличная штука, если только любишь не клюквенные стереотипы, а изучаешь реальную историю. Проблема в том, что вздохи об империи почти всегда сопровождались ненавистью к тому, что пришло следом, – к советскому периоду.
Развенчание так называемого совка стало в 90-х любимым занятием всех подряд, включая советских деятелей искусства, занимавших при злых коммунистах высокие посты и осваивавших немалые бюджеты.
Никита Михалков и многие из «потерявших Россию» были искренни, когда восхищались имперским периодом и возмущались недостатками Союза. Наверное, так они действительно хотели восстановить истину и принести пользу народу. Вот только своими действиями они народ глубоко калечили.
Представьте, что вам, скажем, 40 лет – вот мне сейчас столько. Вы жили себе, как все живут: к чему-то стремились, чего-то добивались, делали ошибки, пытались их исправить – все обычные вещи. И в один прекрасный день к вам приходит друг, которого вы всегда уважали. И говорит:
– Дружище, ты – подонок и злодей! Все, что ты свои 40 лет делал, было напрасно! Тебя обманывали и заставляли мучать окружающих… До этого твой отец тоже был свинья свиньей! 70 лет жили вы как скоты!
Он говорит настолько убедительно, что ты начинаешь задумываться: а может, он прав? Может, я действительно полнейшая сволочь и дрянь?.. Тут появляются с десяток других, и все заводят ту же шарманку. Наконец ты впадаешь в истерику и депрессию. Параллельно с этим из твоего дома выносят всю мебель, забирают твои деньги, пару раз больно дают по голове и добавляют, что так тебе, злодею, и надо.
Но вынося последний стул, тот самый друг говорит:
– Ты знаешь, не все так плохо. У тебя был дед, вот он красавчик, жил прекрасно, все его уважали, вот это были времена!..
Именно так обошлись с нашим народом любители «хруста». В темные годы разрухи и клеветы они вторили западным пропагандистам, уверяя, что все, чем жили мы и наши родители в Союзе, – ложь и мерзость. А взамен предлагали мечту о потерянном рае где-то там, в XIX веке.
То, что делали с нами в 90-х, отнюдь не уникальный случай. История знает очень красноречивый пример того, как разрушали суверенитет некогда могучего государства – в военном, экономическом и культурном плане.
Наши противники прекрасно умеют ломать самосознание и культуру неугодных им стран, превращать их в марионеток. Как и многое другое, они делают это эффективно и планомерно. Одним из первых объектов, на котором это было отработано, стала Япония после Второй мировой войны.
В 1945 году империя Ямато понесла сокрушительное поражение – Советская армия освободила оккупированную самураями Маньчжурию, бывшую ресурсной базой японского милитаризма. Одновременно с этим США произвели показательное избиение мирных жителей: атомным огнем уничтожили Хиросиму и Нагасаки.
Был прекрасно воплощен девиз американских силовиков: strike first, strike hard, no mercy («бей первым, бей сильно, никакой пощады»). Военное значение ядерных ударов было не так уж велико, позднее, на заседании японского правительства по поводу капитуляции, обсуждалось в основном поражение от Красной армии в Маньчжурии. Но страшное «чудо-оружие» в руках врага имело огромное значение для подрыва морального климата в стране. В дальнейших конфликтах США будут использовать именно эту тактику – удары на расстоянии по гражданским объектам с целью произвести «шок и трепет».
Что ж, в 1945-м эта техника прекрасно подействовала. Император Хирохито объявил нации: по нам применили новое страшное оружие, против которого наши смелые бойцы бессильны. Япония получила более-менее достойный повод капитулировать.
По итогам войны стране было запрещено иметь собственную армию, на ее территории разместились военные базы США. В экономику вошли американские капиталы, а главное – началась массированная культурная экспансия. Повсюду строились кинотеатры для демонстрации голливудских фильмов, дискотеки и клубы, в которых играли западную музыку. Американская одежда, танцы, еда, английский язык – все это было объявлено «модным и современным».
Не правда ли, участь японцев после окончания Второй мировой весьма напоминает судьбу бывших советских людей после окончания войны холодной? По нам разве что не нанесли бомбовых ударов – пожалуй, только потому, что стараниями поколений советских ученых и военных у нас есть собственные большие бомбы. Хотя бы тут у Запада не получилось до конца применить свою любимую технику – с расстояния избивать тех, кто не может дать сдачи.
Зато отлично сработала другая их любимая техника – идеологический удар по мозгам при помощи массовой культуры.
В оккупированной Японии, как и на развалинах СССР, существовали группы недовольных новым порядком – правые, мечтавшие о возрождении традиций, и левые, искавшие свободы от американского империализма. Конечно же, как и у нас, таких людей всячески маргинализировали, выставляя дремучими фанатиками и дурачками.
Последней символической попыткой что-то изменить был бунт великого японского писателя Юкио Мисимы и созданного им на литературные гонорары «Общества щита», по сути, маленькой частной армии. В 1970-м, вооружившись самурайскими мечами, Мисима и его сторонники захватили военную часть, требуя вернуть абсолютную власть императору и изгнать американцев. Ни на какие переговоры с ними правительство не пошло, да и сами солдаты захваченной части не захотели слушать сложные речи писателя о возвращении к былому величию. Поняв, что возродить страну не получится, классик японской литературы совершил харакири.
А Япония пошла дальше по пути превращения в ту страну, которую мы знаем теперь. Американские военные стоят в стране уже 80 лет, правительство каждый раз продлевает с Белым домом договор о «военной помощи». Чем современная Япония знаменита прежде всего? Вычурной массовой культурой (аниме, j-pop), вкусной и разнообразной едой, огромной секс- и порноиндустрией. Проще говоря, в стране великолепно, чрезмерно развито все, что делает человеческую массу довольной, не дает ей задумываться о чем-то серьезном. Например, о своей утерянной независимости, об участи навечно оккупированного народа.
Есть у японцев и свой «хруст булки» – клюквенный образ старой Японии с мультяшными гейшами и самураями.
Конечно, в отличие от японцев, мы не запятнали себя фашизмом и злодействами вроде «Отряда 731», но можно ли быть настолько наивным, чтобы думать, будто для Запада тут есть какая-то разница?
Настоящее чудо нашей судьбы в том, что, пройдя практически такой же путь превращения из мировой державы в культурную и финансовую колонию, мы в какой-то момент совершили крутой поворот, свернули с этого пути в сторону восстановления достоинства и независимости.
Спустя всего 8 лет после развала СССР, в 1999-м, российская армия на Балканах совершила «Бросок на Приштину» – вопреки западному командованию начала операцию с целью помочь сербам и закрепить влияние в регионе. Это был первый знак того, что, даже несмотря на разруху и нищету, мы не хотим быть ничьими марионетками.
Наша армия тогда действовала вопреки даже собственному правительству и президенту Ельцину, которого положение марионеток как раз устраивало. Генералы, принявшие решение начать операцию, президента в известность не ставили почти до самого конца. Так русская армия и составлявший ее русский народ дали понять всему миру: колонии из нас не получится, как ни старайтесь.
Стоит ли говорить, что, если мы хоть немного дадим слабину, к нам снова применят японскую модель, а если получится – то и с ядерными ударами. Западные стратеги уже один раз проглядели возвращение России к самостоятельности. Второй раз они подобной ошибки не сделают.
И все же среди тьмы 90-х были светлые проблески – в довольно неожиданных местах.
Посреди идеологического обстрела достойно показала себя довольно скромная область искусства – русская развлекательная литература. На долгие годы массовое чтиво, от которого воротили нос «серьезные» литературные критики и ценители, стало едва ли не единственным прибежищем патриотических деятелей культуры – тех, кто не хотел смириться с ролью подмастерья у «белых господ». Пока считавшийся «серьезным» писателем Виктор Пелевин учил нас, что «цель существования России – превращение солнечной энергии в народное горе», авторы космоопер, детективов и боевиков пытались говорить об обратном. О том, что быть русским – честь и ответственность. Много было написано слабого и наивного, но была и крепкая, качественная беллетристика и даже выдающиеся вещи вроде романа «Время московское» Александра Зорича.
Но примечательнее всего, что падение СССР привело к бурному росту в нашей литературе отдельного жанра – так называемого попаданчества, где герой – наш современник, попадающий в прошлое и предотвращающий разрушение страны.
Над попаданцами смеялись московские эстеты, по ним не снимали фильмов – члены влиятельных кланов, распиливших финансы, не давали на это денег. Мечтать о спасении СССР на телевидении и в кино было не модно и почти что запрещено. Но так называемая массовая литература, которая потому и массовая, что отражает чувства и желания народа, породила сотни произведений об этом. Ее авторы коснулись темы, которой боялись богема и интеллигенты. Они говорили о том, какую страшную потерю мы пережили. И о том, что любой ценой нынешнюю ситуацию надо исправить.
Не только духовно и интеллектуально, но и физически мы тогда подошли к самому краю. Я прекрасно помню мрачный и тревожный фон моего детства – Первую и Вторую чеченские войны.
Нынешнее поколение не так уж много знает о том недавнем конфликте. Тем более что он заслонен нынешней войной, которую Россия ведет уже не против кучки сепаратистов, а против всего натовского колосса. Тем не менее война в Чечне была самой жестокой со времен Второй мировой. А главное, Россия была тогда совсем другим государством, находилась в глубоком кризисе и без всякой войны еле-еле удерживалась от распада. К тому же с другой стороны фронта достаточно быстро стали выступать отнюдь не только одни чеченские националисты. К ним присоединился международный исламизм, а заодно целый букет русофобских группировок – украинских, прибалтийских и так далее.
К той войне мы были совершенно не готовы. Частью западного колониального проекта, которым являлась Россия 90-х, был развал силовых структур. Российская армия на момент начала боев находилась буквально на грани голодной смерти. Офицеры отправляли солдат разводить огороды на территориях частей, буквально сажали картошку на полигонах, чтобы на следующий год было чем прокормиться.
У власти тогда находилась насквозь русофобская, прозападная группировка, не стеснявшаяся откровенного воровства. С самого начала у чеченских боевиков были покровители во властных структурах в Москве, прекрасно на этой войне заработавшие.
К разрухе, бедности и всеобщей клевете, в которой жил российский народ, прибавились кровопролитие и жуткие теракты против мирного населения – ставшие нарицательными Будённовск, Дубровка и Беслан.
Русские жители Чечни, бежавшие от устроенных дудаевцами и прочими бандитами этнических чисток, в большой России были встречены… да никак. Оставшиеся без работы и крова, они не получили почти никакой помощи. Это при том, что многочисленные гуманитарные и правозащитные организации, наводнившие страну, работали вовсю. Просто русские люди были никому не нужны в собственном государстве.
«…Мы виноваты перед русскими беженцами из Чечни, – говорит Лидия Графова, председатель Форума переселенческих организаций. – Мы – это в целом правозащитное движение. Именно с нашей подачи общественное сострадание замкнулось только на чеченцев. Это, наверное, заскок демократии – поддерживать меньшинство даже ценой дискриминации большинства… Вот на этом самом диване в 93-м сидели русские из Грозного. Они рассказывали, как каких-то старушек чеченцы душили шнуром от утюга, мне это особенно запомнилось. Но рассказывали как-то спокойно, без надрыва. А мы тогда занимались армянами из Баку. Когда я этих армян увидела, я почувствовала, что это самые несчастные люди на свете. А с русскими я этого почему-то не почувствовала. Не знаю, может, недостаточно громко кричали? А потом пошел вал беженцев-чеченцев. И я должна признаться – мы искренне считали, что должны отдавать предпочтение им перед русскими. Потому что чувствовали перед ними историческую вину за депортацию. Большинство правозащитников до сих пор придерживаются этого мнения…»14
Не правда ли, отлично иллюстрирует мышление «либералов и правозащитников», для которых иностранцы – бакинские армяне – важнее собственного народа?
Пожалуй, самым роковым был 1996 год, когда по итогам Первой войны Чечня де-факто перестала быть частью России. Боевики соглашались на переговоры при одном условии – полном выходе из состава РФ. Еще один шаг – и этот выход был бы признан официально, что означало бы прецедент: страна начала разваливаться. Следом стали бы отделяться новые регионы, и вместо двух страшных войн 90-е ознаменовались бы десятками. В этот момент Россия приблизилась уже к физическому уничтожению.

