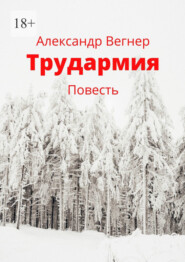скачать книгу бесплатно
Перед Марией открылись ещё одни двери, и она оказалась в коридоре, освещённом несколькими тусклыми лампочками. За столом недалеко от входа сидел пожилой милиционер, наверное, дежурный.
– Принимай задержанную, Фадей Гордеич, – сказал ему второй милиционер, который оказывается был старше стучавшего в землянку.
– Призналась? – спросил, вставая, Фадей Гордеич. – Что говорит?
– Ничего не говорит, только воет.
– А чего выть? – ласково улыбаясь сказал дежурный. – Не виновата – отпустим, а виновата – будешь отвечать по всей строгости военного времени. Пойдём! Поселю тебя рядом с землячком.
Долго шли по бесконечному коридору, становившемуся всё темней, наконец свернули в закуток, где почти совсем не было света. Но дежурный без промаха вставил ключ и открыл перед Марией дверь камеры, щёлкнул снаружи выключателем и сказал, указывая на железную кровать, застеленную каким-то тряпьём:
– Располагайся.
Опять заскрежетал замок, свет погас, и в кромешной тьме она завыла так, что самой стало страшно. Под утро она то ли уснула, изнурённая, то ли потеряла сознание.
Очнулась, когда за окном уже стали видны заснеженные кусты, а дальше, за забором, труба кирпичного завода. Совсем далеко – белые крыши домов и сараев. В эту ночь наконец наступила зима. Как Мария ещё совсем недавно любила первый снег! А сейчас всё – жизнь сломана… Кончилась жизнь! Её колотил озноб. В камере, действительно, было холодно. А на воле ветер утих, и небо прояснилось. Вставало солнце. Всё заискрилось – также, как в прошлом году, как в позапрошлом, когда она со своими однокурсниками шла пешком по такому же чистому первому снегу в педучилище…
Она вздрогнула от звука открываемого замка. Дежурный – не вчерашний, но тоже пожилой, почти старичок – сказал буднично, по-домашнему:
– Гейне, тебе передача – картошка-лепошка, – и улыбнулся всеми своими морщинами: мол, я не передразниваю, мне так сказали, я передаю.
Их красная чашка. А в ней несколько картофельных лепёшек. Золотистая корочка с двух сторон. И запах, наверное, вкусный, только Мария сейчас ничего не чувствует – ни запахов, ни вкуса. Во рту всё пересохло, язык деревянный, и в глотке ком – ничего не пропускает. А чашка ещё тёплая. «Встали, наверное, до свету, нажарили и сразу с печки мне понесли… А может – ничего, может – обойдётся, разберутся. Ведь я не виновата».
Только так подумала, а замок уже снова скрежещет:
– Гейне, на допрос.
Кабинет. В другом конце того же здания. Солнце в окно. За столом молодой милиционер. Гимнастёрка, красные петлицы на воротнике.
– Младший лейтенант Чалов. Веду ваше дело, – посмотрел на неё. Долго смотрел, выжидающе. – Ну рассказывайте.
– Что рассказывать?
– Как сушилку подожгли.
Её снова затрясло, полились слёзы:
– Не поджи-и-га-ла я! Я ушла… всё… уже потухло.
– Потухло, говоришь? А кто это может подтвердить?
– Бригадир был, Семён Васильевич. Он сам кирпичи щупал. Они уже холодные были. Спросите его…
Хорошо, что в кармашке платья оказался носовой платок. А то сидела бы сейчас, размазывая сопли и слёзы.
– И когда же он щупал?
– Перед тем, как я домой пошла. Он пощупал и отпустил меня.
Тут Чалов усмехнулся и сказал:
– Ну ладно, а в котором часу отпустил?
– Не знаю, темнеть стало. Сумерки были. Где-то в семь.
– В семь… А загорелось в двенадцать. Выходит, ты пошла домой, потом вернулась и подожгла?
– Не поджигала-ааа! Мы поужинали и спать легли-и-ии!
– Не поджигала? А отчего же тогда загорелась? Или она сама себя подожгла? Сушилка-то?
– Не знаа-а-а-а-ю!
– Может подложила что-то, чтобы тлело, а потом разгорелось? Или спички как-то так разложила, чтобы огонь пополз?
– Ничего я не дела-а-ла! Я и не умею, и не знаю…
– А может бригадир поджёг?
– Не-е-ет! Я пошла, и он ускакал. На коне он был.
– Ну хорошо, устрою тебе очную ставку с бригадиром. Подожди пока.
Чалов позвонил в правление колхоза, и через десять минут Мария уже видела в окно, как Семён Васильевич мчится галопом, и сырой снег комьями вылетает из-под Алимовых копыт. Ещё через несколько минут бригадир уже входил в кабинет. Да, серьёзная организация милиция!
– Ну что бригадир. – сказал Чалов. – Вот гражданка Гейне утверждает, что ты последним видел сушилку перед пожаром. Говорит, в семь часов вечера ты всё осмотрел, проверил, пощупал, её отпустил, а сам остался.
– Не говорила я так. Мы вместе ушли.
– Вместе что ли подожгли?
– Да вы что, товарищ младший лейтенант! Я вчера один раз там был… В обед, – глаза Семёна Васильевича забегали, будто он не знал, куда их деть. – Приехал, посмотрел, как сушится. Сказал: сейчас ребята ещё воз привезут… И всё… Вечером я её не видел и не отпускал. Она сама знала, когда можно уйти.
– Понятно, так и запишем. Гражданку Гейне не видел, уходить от сушилки не разрешал. Правильно?
– Да, так и было.
– Семён Васильевич! – закричала она в отчаянии. – Разве вы не помните, как щупали кирпичи, сказали «Иди домой».
– Нет, товарищ младший лейтенант, клевета! Не видел я её.
– А может, всё же видели, товарищ бригадир? А? Может вы подожгли?
– Да что вы, товарищ младший лейтенант! Мне-то зачем?
– А ей зачем?
– Ну… она того… немка…, – руки у Семёна Васильевича задвигались так же суетливо, как глаза… – Может своим помогает…
– Так и запишем: «Считаю, что сушилку подожгла гражданка Гейне из вредительских побуждений». Верно?
– Выходит, так.
– Выходит «так» или просто «так».
– Ну так, наверно…
– Ладно иди.
Когда Семён Васильевич ушёл, и последняя её надежда рухнула, Мария заголосила уже, не сдерживаясь.
– На вот, подпиши протокол, – сказал Чалов.
Но Мария ещё сегодня ночью решила ничего не подписывать, тем более, не понимая, что подписывает. А сейчас она вообще не способна была что-то понимать.
– Ну хорошо, – сказал Чалов, – так и напишем: «Подписать протокол отказалась»!
– Что теперь будет? – всё-таки смогла спросить Мария.
– Судить тебя будут. Суд и решит, что с тобой делать.
Услышав слово суд, она совсем ополоумела и стала кричать уже по-немецки.
Мария не помнила, как шла в камеру, как очутилась на кровати с тряпьем. Кричала и плакала весь остаток дня. А поздно вечером вдруг услышала глухой стук в стену. Этот еле слышный стук вернул её к действительности. Мария стала воспринимать звуки, обращать внимание на свет автомобильных фар за окном, и вскоре уснула так крепко, будто умерла.
Утром пришёл тот же старый милиционер. Принёс ложку овсяной каши и светло-жёлтую жидкость в алюминиевой кружке, наверное, чай.
– Ох, и кричала же ты вчера, дочка! У меня самого глаза на мокром месте были: «Чего, – думаю, – девчонку мучат?» Ты только никому не говори, что я так сказал. А то…, – он махнул рукой, – можешь и сказать. Мне старику всё равно, прожил я своё. Но лучше не говори… А картошку-лепошку что же не съела?
– Не могу… Хотите, съешьте.
– А что, давай, пожалуй! Не пропадать же. Смотри только не пожалей.
– Не пожалею.
Чай Мария смогла выпить, а кашу не стала.
Наступило какое-то отупение: ну и пусть, будь что будет…
Вскоре опять пришёл милиционер, в руках другая – синяя – их чашечка:
– Новая картошка-лепошка приехала. Ты уж того, поешь.
– Берите себе.
– Нет, нет, больше не возьму. За то спасибо. Вкусная картошка-лепошка. А эту обязательно сама съешь. Не бойся, ничего тебе не будет за сушилку— ей грош цена копейка. Да председатель ваш, вроде как за тебя просил. Точно не скажу, но слышал краем уха.
Оставшись одна, она принюхалась – от жаренной в масле картофельной лепёшки исходил аромат, чудеснее которого не было в её жизни. Она отломила кусочек, а потом с жадностью проглотила все три «картошки-лепошки».
В стенку опять постучали, как вчера вечером. Но Мария опять не решилась ответить. А вскоре пришёл дежурный и принёс ведро с тряпкой:
– На-ка, полы помой – время веселей пройдёт.
Она вымыла весь коридор, а когда заканчивала мыть пол в закутке возле двери соседней камеры, из-за двери донёсся хриплый, простуженный голос:
– Мария! Это ты?
– Я. А вы кто?
– Я Йешка Бахман.
– Йешка! Но ведь ты в трудармии!
– Я убежал. Меня позавчера вечером поймали. Я страшно хочу есть. Передай своей маме, пусть мои мне что-нибудь принесут. Поняла?
– Да.
– Что ты дочка? Разговариваешь с кем? – спросил появившийся дежурный.
– Нет я так, головой о косяк стукнулась.
На следующее утро её вызвал Чалов:
– Ну вот что, Мария… Фридриховна, Маруся, Маша, Марейка – как там тебя? Приходил вчера этот ваш бригадир Семён Васильевич. Отказался от своих показаний. «Струсил», – говорит. «Не смогу, жить, если буду знать, что девчонку погубил». Председатель ваш был. Тоже хорошо о тебе отзывался. «Давай, – говорит, – лейтенант, спишем на провода. Ветер, мол, сильный был, захлестнуло, искры полетели, попали на соломенную крышу». Далековато, конечно, до проводов, но чем чёрт не шутит, может и правда долетели. Я всё это начальству доложил. Начальство решило: «Раз у неё повестка на руках, пусть отправляется в трудармию, нехай там разбираются вредитель она или нет». Так что бери свои манатки, и брысь отседова, пока не разложила мне своими воплями все кадры.
Марии принесли её фуфайку и шаль, а на шали те же два репья из родного дома. Она даже срывать их не стала, надела шаль на голову вместе с ними.
Открылась дверь на пружине, и также раздалось за её спиной:
– И-ииии-иии – бум! – как той несчастной ночью.
Жигули
Морозы в этом году сразу принялись за дело. Двадцать градусов днём с обжигающим ветром. Снегу сразу выбросило на полваленка, и перестал на утренней заре пастух выгонять коров из хлева[7 - Пушкин «Евгений Онегин»].
Катрине-вейс теперь у них каждый день. Нечего больше таиться. Рассказала, как пришёл Йешка. Они сидели втроём в землянке и ужинали, когда снаружи тихо-тихо постучали. Она открыла дверь, а там её внук: грязный, обросший, без шапки, в одном пиджачке.
– Боже мой, – говорила Катрине-вейс, всплёскивая руками, – что он рассказал! Да и рассказывать не надо – всё по нему видно. Кожа да кости. Он говорит, в трудармии такой голод! Хлеб дают четыреста граммов, а варёного – пустой суп и не каждый день. Не выдержал он. Терпел, пока лето и можно было что-то в лесу найти – грибы или ягоды. А осенью стало совсем плохо. Решил убежать. Я говорю: «Йешка, да как же ты осмелился на такое. Ведь за это тюрьма, а может и хуже!» А он говорит: «Хуже ничего не может быть. Мне и так, и так смерть. А от голода она страшней всего, потому что медленная». Десять дней ехал на крышах вагонов. Днём прячется, ночью едет. А ведь холод! Его так продуло! Говорит: «У меня всё болит, грудь изнутри опухла, я ни дышать, ни кашлять не могу». Ну что делать?! Такого кашля я никогда не слышала! Говорю: «Подожди, сынок, я тебе молока вскипячу, чтобы кашель стал мягче». Пошла к вам за молоком, вернулась, а там уже милиция. Йешка еле успел одну картошечку съесть. Я заплакала, говорю, позвольте мне его покормить, напоить кипячёным молоком – слышите, как он кашляет. Потом заберёте. Он не убежит». А они: «У нас его и накормят, и напоят!». Ох-ох, за что нам такое?! Неужели Бог нас всё ещё карает, из-за того, что Фридрих был вор? Ну он был вор, а дети его чем виноваты? Какие муки он вытерпел! Йешка-то! Не понимаю, как он живым добрался. Десять дней без еды. Ещё нашёл силы пешком от Каргата дойти – сто километров. Такой ветер был в последний день, а он в одном пиджачке и без пуговиц… Бедные мои внуки! – и Ктрине-вейс принималась рыдать, а, слушая её, не могли не заплакать и Мария с матерью.
– Зачем мучить людей? Ведь он работал, делал всё что надо. Зачем не давать людям кушать!? – всхлипывала несчастная старушка. И в этом всхлипе Марии слышалась жалоба на всю несправедливость того, что так безжалостно обрушилось на семью Бахманов. Но уходя домой, Катрине-вейс непременно просила:
– Вы уж, ради Бога, никому не рассказывайте, что я тут говорила.
Конечно, не расскажут.
Ох, беда, беда! В тюрьме трудармия казалась спасением, а сейчас, после Йешкиного побега…
Так Мария маялась до отправки. Сама чувствовала себя отрезанным ломтём, и родители смотрели на неё так, словно на смерть провожали.