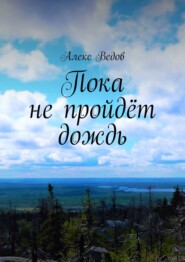скачать книгу бесплатно
Но какая-то часть меня, вопреки здравому смыслу, упорно отказывалась принимать случившееся. Я не мог это чётко себе сформулировать, но что-то подсказывало: тут некий особенный, даже исключительный случай, и подхода только с медицинской стороны недостаточно. Вполне вероятно, что произошедшее с Е.Г. имеет отношение к нему не столько как к человеку из плоти и крови, сколько к его личности. А эту личность я знал лучше, чем любой из его нынешних коллег.
Надо хотя бы попытаться разобраться во всём этом, и если получится… Что получится? Понятия не имею, но нечто такое, что повлияет на ситуацию к лучшему, поможет врачам вернуть Е.Г. к нормальной жизни. Или хотя бы в сознание. Да, вот это придало бы смысл моему пребыванию здесь. А иначе – ради чего болтаться тут ещё какое-то время и уехать ни с чем?
Но для начала необходимо больше узнать о том, что занимало Е.Г. последние полтора года. Его эксперименты с погружениями. Собственно, я за этим сюда и ехал. Если не помочь ему самому, то хотя бы узнать, чего он достиг, и донести это до широкой читательской аудитории.
Ведь он наверняка дал бы мне возможность самому пройти через данный опыт. Только так и можно составить представление о том, что я хотел узнать и обнародовать. Вообще, это моё профессиональное кредо – как можно ближе знакомиться с предметом, о котором будет идти речь, а лучше всего иметь дело непосредственно. В этом мы с Е.Г. совпадаем во взглядах. С чужих слов – уже не то. С таким же успехом можно добыть информацию из специальной литературы или интернета, благо она общедоступна и её хватает.
Итак. Во-первых, мне нужно получить доступ к тем результатам, которые к настоящему времени получил Е.Г. в ходе своих исследований. Во-вторых, мне нужно пройти хотя бы через одно погружение.
Но пойдёт ли мне навстречу администрация? Ведь понятно же, что сейчас им всем не до меня. С другой стороны, я никому не помешаю, и не вижу веских причин, по которым они бы мне отказали. По крайней мере, попробовав договориться, я ничего не теряю.
С этими мыслями я вернулся к себе в комнату и остаток дня провёл, прикидывая так и этак свои дальнейшие действия. Заснуть долго не мог: впечатления последнего дня вихрем роились в голове. И когда всё-таки провалился в объятия Морфея, мне приснился довольно странный и пугающий сон.
Мне приснилось, что мы с Е.Г. в аквалангистском снаряжении ныряем в то ли озеро, то ли в море на большую глубину. Там на дне лежит давно затонувший корабль, а в трюме, как мы предполагаем, находятся некие сокровища, которые мы намерены достать и вытащить на поверхность. Вода холодная и тёмная, и на этой глубине почти ничего не видно, однако у нас есть подводные фонари. И вот мы уже у цели, видим эту тёмную громаду – галеон или фрегат, наполовину зарывшийся корпусом в придонный ил. В корпусе сбоку зияет чернотой огромная пробоина, и мы заплываем туда. Долго обшариваем нутро корабля, но не находим ничего стоящего. Уже хотим подниматься, но тут Е.Г. находит нечто такое, что привлекает его внимание, и подзывает меня. Я подплываю и вижу некий артефакт, напоминающий уродливую человеческую статуэтку, довольно большую – в половину человеческого роста, и сделанную из неизвестного мне материала, похожего на тёмный металл. Я почему-то сразу понимаю, что она создана не людьми, а какими-то другими существами с чужеродным разумом и гораздо более могущественными. Мне становится очень страшно, – я чувствую опасность, исходящую от этой штуковины. Я пытаюсь дать понять Е.Г., что нужно скорее уплывать отсюда. Но тот продолжает осматривать и ощупывать странное изделие. И вдруг оно оживает, как в зловещем кукольном мультфильме, и хватает моего друга за руку. Одновременно на бесформенной голове статуи проявляется отвратительная устрашающая морда, она скалится и злобно гримасничает. Е.Г. отчаянно дёргается, пытаясь освободиться, но тщетно. Я бросаюсь ему на помощь, теперь мы вдвоём силимся вырвать его руку, но жуткий идол вцепился мёртвой хваткой и не отпускает. Ни приподнять, ни сдвинуть с места проклятое изваяние не получается – оно то ли прикреплено к днищу, то ли невероятно тяжёлое… А время идёт, и кислорода в баллонах становится всё меньше. В какой-то момент мы оба понимаем, что из дьявольского капкана вырваться у Е.Г. не получится. Я вижу сквозь маску на его лице выражение обречённости, он жестами показывает мне, чтобы я поднимался. Я нахожусь в ужасе и отчаянии, хочется орать, но кислород на исходе, я задыхаюсь, слёзы бегут из глаз… Но в конце концов не выдерживаю, выплываю через пробоину из корабля и устремляюсь наверх, к поверхности, откуда просачивается солнечный свет.
А Е.Г. остаётся там, внизу, в мрачной холодной темноте. Один. Пока живой.
Я ничего, ничего не смог поделать. Я оказался вынужден оставить его там, чтобы не погибнуть самому. Сознание этого было настолько душераздирающим, что я забился в истерике, завопил во весь голос…
…и проснулся. Сердце бешено колотилось, и я чувствовал, что мне реально не хватает воздуха. Было тихо, и за окнами стояли серые предрассветные сумерки.
Боже, какой кошмар, думал я, сидя на кровати и глядя перед собой в темноту номера. Такого давно мне не снилось. Сновидение было очень реалистичным, словно бы всё случилось наяву. Понятно, что оно навеяно последними событиями, ассоциациями с термином «погружение»… Но может, оно означало нечто большее? Кто его знает…
До утра я уже не заснул.
*
На следующий день сразу после завтрака я отправился в административный корпус. Мне стоило немалых трудов добиться аудиенции у главврача (это был первый заместитель Е.Г., на данный момент исполняющий его должностные обязанности). Ещё труднее было договориться, чтобы он разрешил мне посетить палату, где сейчас находился мой друг. Всё же я получил всемилостивейшее согласие, благо Е.Г. своевременно позаботился о том, чтобы известить управляющий персонал о моём визите.
Просить сейчас о чём-то ещё мне казалось совсем уж беспардонным. Поэтому я решил отложить на ближайшее будущее то, что хотел сделать. А пока нужно было навестить старого приятеля, пусть даже и находившегося в таком состоянии.
Отделение интенсивной терапии находилось на первом этаже двухэтажного корпуса. Переоблачившись в халат, шапочку и бахилы (и даже специальную маску пришлось напялить), я прошёл в большую комнату с кафельным полом и белыми стенами, уставленную всевозможной аппаратурой непонятного мне назначения. Признаться, за долгие годы работы журналистом мне довелось побывать в разных местах и повидать всякое. Но в таком помещении я был впервые.
И в первый раз я видел Е.Г., находившегося без сознания.
Он лежал на койке, наполовину прикрытый простынёй. От головы и груди тянулись провода ко всяким следящим устройствам. Экран кардиографа на столике рядом показывал сердечные ритмы – тонкая светящаяся линия периодически судорожно дёргалась пиками. Ещё один тонкий шланг капельницы был присоединён к руке.
– Как он? – шёпотом осведомился я сидевшей рядом медсестры, словно боясь разбудить его.
– Ну, как видите, – тоже негромко ответила она. – Состояние стабильное. Сейчас, скажем так, угрозы для жизни нет. Дыхание редкое, хотя уже самостоятельное. А пульс слабый, в сознание не приходит.
– И как вы думаете, долго он так… пробудет? – не смог не спросить я, внутренне морщась от глупости сказанного.
– Кто его знает, – вздохнула медсестра. – Делаем всё необходимое. Но пока нужной положительной динамики не наблюдается. С такими параметрами, как сейчас, он может находиться в этом состоянии неопределённо долго.
Я кивнул – мол, понятно, хотя ничего конкретного и обнадёживающего не услышал. То же самое говорила мне вчера и Тамара Сергеевна.
Я подошёл поближе. Е.Г. мало изменился за то время, пока мы не виделись. Всё та же стрижка ёжиком. Правда, седины на висках, как мне показалось, прибавилось. И сейчас его лицо выглядело заметно похудевшим – запали глаза, ввалились щёки, обострились скулы, и уже заметно серебрилась на них щетина, которую Е.Г. в сознании носить себе не позволял. Грудь еле-еле и медленно, но всё же вздымалась вверх-вниз – действительно, он дышал сам.
– Здравствуй, дружище, – пробормотал я. – Вот уж не ожидал застать тебя таким…
Конечно, он никак не отреагировал, но я всё же в глубине души надеялся, что Е.Г. меня слышит. Глаза были закрыты, однако я заметил, что веки слабо подрагивают. Может, до его затерявшегося неизвестно где сознания мои слова как-то доходят?
– Ладно, ты давай держись, – произнёс я немного громче. – Я верю, что ты выкарабкаешься. Мы ещё повоюем!
Е.Г. лежал всё так же, в своём глубоком забытьи, и я напрасно вглядывался, стараясь уловить у него хоть какие-то признаки контакта с внешним миром. Сейчас это было только туловище – бесчувственное и бессознательное. Не просто непривычно, а даже страшно было видеть его, всегда живого и подвижного, в таком беспомощном положении.
Мне вспомнился ночной сон, и тут же стало совсем не по себе.
«С чем же ты встретился таким, в этом своём погружении, что не пускает тебя обратно?» – подумалось мне.
Если бы он мог как-то дать знать, как ему помочь!
Я постоял ещё немного, глядя в задумчивости на неподвижно распростёртое тело, потом повернулся и пошёл на выход.
Около часа гулял, собираясь с мыслями, а затем отправился к Тамаре Сергеевне. У меня созрел план. Я задумал сначала ознакомиться с отчётами Е.Г. об опытах с депривацией (зная его скрупулёзный подход к работе, я не сомневался, что он всё записывал). А потом самому пройти через этот опыт. Собственно, такое намерение у меня было с самого начала, но я рассчитывал на участие Е.Г. во всём этом. А теперь приходится докапываться до всего самому.
Опять-таки, если мне позволят.
Повторная беседа с Тамарой Сергеевной обнадёжила.
– Против доступа в его кабинет не возражаю, – сказала она, выслушав мою просьбу. – Судя по тому, как Е.Г. отзывался о вас и как готовился к встрече, нет причин вам не доверять.
– Спасибо, вот и отлично, – я даже не ожидал, что так быстро удастся договориться.
– Но я не знаю, где у него что, так что ищите сами, что вас интересует. Единственное, о чём я бы вас попросила – ничего оттуда не выносить. А то мало ли…
– Конечно, обещаю, что ни одна бумажка пределов его кабинета не покинет, – заверил я. – И я надеюсь, вы не против, чтобы и мне испытать погружение? Хотя бы раз?
– Насчёт этого… пока не знаю, – женщина нахмурилась. – С учётом того, что случилось… А если вдруг что-то ещё и с вами? Сами понимаете, мы не имеем права так рисковать.
– Тамара Сергеевна, послушайте, ведь у вас уже десятки людей имели опыт пребывания в камере депривации! И всё было хорошо. Если понемногу, это же безопасно, вы сами понимаете! Я уверен, что с Е.Г. – это что-то другое…
– Что «другое»? – иронически усмехнулась она. – У вас уже появились какие-то версии?
– Пока не знаю, но… я как раз хочу это выяснить. Документы документами, но личный опыт ничто не заменит, согласитесь! А Е.Г. предоставил бы мне такую возможность. Мне это необходимо, и не из чистого любопытства, а профессионально, понимаете?
– Понимаю, но… и вы нас поймите. Сейчас никто из администрации не возьмёт на себя такую ответственность. Уже из-за одного случая с Е.Г. наверняка все по шапке получим. Несмотря на то, что все эти опыты с погружениями были исключительно его собственной инициативой. А если пострадает ещё кто-то, да к тому же из посетителей – вы представляете, что тут будет? В лучшем случае заведение утратит репутацию. А скорее нас просто прикроют.
– Разумеется, и вы по-своему правы. – Я решил пойти напролом. – Всё же… Знаете, я уже давно не мальчик и привык отвечать за свои слова и поступки. Поэтому готов подписать загодя любой документ, по которому беру на себя всю ответственность за последствия погружения, каковы бы они ни были. Это вас подстрахует от наездов со стороны вашего начальства. А со мной ничего не будет.
– Вы так уверены в себе? – невесело улыбнулась Тамара Сергеевна.
– Уверен, – подтвердил я, хотя кроме интонации это сделать было нечем.
– Ладно, посмотрим… – сдалась она. – Если уж так желаете, может немного погодя. И совсем ненадолго.
– Вот и отлично, – обрадовался я. – Конечно, не прямо сию минуту. Пока мне нужно узнать, чего достиг Е.Г. в ходе опытов с депривацией. А это займёт, вероятно, не один день. В любом случае, благодарю вас за помощь.
– Да не за что, – заместительница встала из-за стола. – Пойдёмте, провожу вас в его кабинет.
*
Было понятно, почему Тамара Сергеевна не собиралась составлять мне компанию в поисках нужных материалов. Дел, разумеется, у неё и без того хватало. Но когда я снова увидел эти объёмистые шкафы, доверху забитые разными папками, появилась унылая мысль, что интересующее меня искать придётся долго. Впрочем, зная любовь Е.Г. к порядку, я полагал, что у него всё подписано, и это поможет мне сориентироваться. А времени у меня было достаточно.
Когда заместительница оставила меня одного, я не спеша прошёлся по кабинету, внимательно оглядывая интерьер. Мало что тут изменилось. Я уже бывал здесь, и не раз. Когда гостил в прошлые разы, мы с Е.Г. засиживались здесь допоздна за чашкой кофе, вели неспешные беседы о всяком-разном и играли в шахматы. Да, вот за этим самым столом…
Надо отдать должное Е.Г., он хорошо оборудовал своё рабочее место. Иной кабинет (а я их повидал) вызывает желание поскорее покинуть его, с порога отторгает пустынно-холодной казёнщиной и канцелярщиной. А здесь было по-мещански уютно: обои приятного песочного цвета с узором, в тон им занавески на окнах, на стенах – миниатюрные картинки-пейзажи в аккуратных рамках, на подоконниках – горшочки с кактусами (Е.Г. почему-то их очень любил), в углу лимонное дерево в кадке. Кожаные кресла – из тех, что одним видом манят плюхнуться и небрежно развалиться. Вдоль стены – аккуратно заправленная кушетка. Если устал, можно и прилечь, вздремнуть. Отдельный столик с чайными принадлежностями тоже приближал обстановку к домашней.
«Только клетки с канарейкой у тебя тут не хватает» – бывало, ухмылялся я.
Шкафы с документами картину не портили – даже они, сделанные из неизвестной мне породы дерева, выглядели как вместилище личной библиотеки. И действительно, книги там тоже были, и не только по специальности.
Все папки, как я и ожидал увидеть, были с подписанными ярлыками на корешках. Собравшись с духом, я принялся со всей внимательностью просматривать их. Я искал любые материалы, связанные с экспериментами по сенсорной депривации. Заняло у меня это около двух часов. Но мне удалось найти только труды американских исследователей в переводе – то были отрывочные сведения тридцатилетней давности. Но всё это я и сам читал, чего-то нового там для меня не было.
Не нашёл я ничего интересного и в документах, которые были разложены стопками на столе. Так, всякие рабочие бумаги…
Потом я включил компьютер Е.Г., надеясь найти что-нибудь там. Наверное, я поступил глупо, думалось мне, что потерял столько времени, ползая по шкафам. Надо было сразу начинать с его ноутбука. Обрадовало то, что войти в компьютер Е.Г. можно было без пароля (я отметил, что он не имел профессиональных секретов от коллег). Огорчило то, что некоторые файлы всё же не получилось открыть (значит, что-то там было не для всех), а из большинства тех, которые открылись, не удалось выудить никакой полезной информации.
«Да что ж такое, – с досадой думал я, – неужели ничего, совсем ничего об этом нет? Ну не может такого быть, чтобы он об этом не оставил никаких зафиксированных сведений!»
А потом вдруг меня осенило.
Мысль была до того простая, что я даже засмеялся над собой – ну как можно быть таким дураком! Почему это сразу не пришло мне в голову?
А с какой, собственно, стати должны остаться какие-то отчёты, если эти исследования были неформальными? Ведь Е. Г. проводил их в порядке частной инициативы. То есть вне и независимо от каких-либо государственных научно-исследовательских программ и основной медицинской деятельности центра. Он не должен был никому в этом отчитываться, точно так же как вообще не обязан был этим заниматься.
Другое дело, что это всё же было связано с его профессией, и важно для него по другим соображениям. И скорее всего, он хотя бы для себя где-то что-то записывал. Интуитивно я был почти уверен в том, потому что знал исследовательский склад ума Е.Г. и его систематический подход ко всему, за что бы он ни брался. Но если он не фиксировал результаты своих опытов в официальном порядке, то…
Само это занятие – рыться в чужих вещах – вызывало у меня чувство неприязни, но ситуация требовала переступить через него. Раз уж взялся раскапывать… Бывало, по работе и не в таком приходилось копаться.
Мысленно попросив у Е.Г. прощения, я выдвинул ящик его стола. Там тоже были какие-то документы, канцелярские принадлежности, всякие мелочи… Но среди всего этого мне сразу бросилась в глаза толстая тетрадь. На обложке красовалась надпись, выведенная толстым фломастером: ИНТРОСПЕКТУМ.
Слово мне ничего не говорило, но почему-то сразу я понял: это именно то, что ищу.
Я раскрыл первую страницу и прочитал заголовок: Исследование внутреннего пространства методом индуцированного альфа-тета резонанса в условиях сенсорной депривации. Опыт погружений и размышлений.
Далее отдельными кусками шёл рукописный текст. Вне сомнений, это записал Е.Г. – я знал его изящный стремительный почерк.
Основа метода не является новой. В настоящее время, если имеешь достаточно средств, можно оборудовать подобную камеру даже у себя дома. Принципиальная разница и преимущество моего подхода в том, чтобы сочетать метод с иными дополнительными факторами, влияющими на работу мозга. Они должны быть действенными и в то же время безопасными. Казалось бы, это взаимоисключающие требования. Однако я нашёл такой естественный фактор. Вот почему опыты с погружениями задумал, а потом стал проводить именно здесь. Дело в том, что на данном участке горного Алтая в верхних слоях земной коры не так давно обнаружены периодические колебания геомагнитного поля. Из специальных источников я узнал, что такое природное явление зарегистрировано ещё в нескольких регионах планеты. Причина его не выяснена. Есть версия, что оно вызвано циркуляцией расплавленных пород (магмы) на относительно небольших глубинах, но она не представляется мне правдоподобной. Я предполагаю, причиной его являются некие флуктуации, происходящие с самим ядром Земли, которое, как считается в геофизике, является генератором поля. Эти колебания чем-то напоминают давно открытые резонансы Шумана. Но последние вызваны электрической активностью атмосферы – это стоячий комплекс радиоволн, огибающих пространство вокруг Земли между её поверхностью и ионосферой. Пульсации, о которых пишу я, распространяются в литосфере – и не горизонтально, а вертикально – от глубины к поверхности. Причина, по которой они обнаруживаются не повсеместно, а всего на нескольких участках планеты, скорее всего, в особенностях тектонического строения земной коры. Где-то они таковы, что для одних регионов эти колебания сильно экранируются, для других (их меньше) – не до такой степени. Горный Алтай – вероятно, одно из мест, где поле ослабляется мало. Так вот, возвращаясь к этому загадочному явлению. У него есть нечто общее с резонансами Шумана, и тут мы подходим к самому главному. Одна из основных частот резонансов Шумана составляет около 8 Гц (т.н. первая гармоника). И такова же преобладающая частота того, о котором пишу я.
8 Гц – пограничная частота между альфа- и тета- фазами волновой активности головного мозга человека. Частоты в диапазоне 7—11 колебаний в секунду, по представлениям современной психофизиологии, соответствуют внутреннему опыту медитации и трансовых состояний. Такие проявления психики, как творчество, воображение, интуиция, тоже связывают с деятельностью мозга на данных частотах. Когда мозг работает в таком режиме, внимание целиком переключается с внешнего на внутреннее. Я бы сказал, 8 Гц – это «частота перехода», на которой сознание может активно взаимодействовать с подсознанием и, как мне удалось выяснить (о чём далее), с областями, которые назвал бы сверхсознательными.
Я прекрасно отдаю себе отчёт в том, что традиционная наука к термину «подсознание» (и вообще ко всему, что относится к области подсознательного) относится с недоверием. Но я всегда думал: если сознательное заслуживает доверия, почему не заслуживает подсознательное, а тем более (пусть мне простят, если заблуждаюсь) сверхсознательное? Это просто градации чего-то такого, чего в науку (которая является исключительно плодом сознательного), не вписывается.
Возвращаясь к теме моих исследований: я предположил, что индуцировать и усилить такие колебания человеку здесь помогает сама Земля. Но колебания эти в обычных условиях очень слабы и не оказывают практически никакого влияния. Другое дело, если человек изолирован от внешних воздействий. Это подобно тому, как радиоприёмник переносится в зону, свободную от различных радиопомех, что позволяет его настроить на нужную волну. Тогда мы можем исследовать феномены функционирования мозга на частотах около 8 Гц, в, так сказать, «максимально очищенном» виде. И вот почему опыты с погружениями я решил проводить здесь.
Для создания резонанса в принципе можно создать такое устройство, которое бы генерировало переменное магнитное поле нужной напряжённости и частоты. Однако, консультируясь со специалистами, я пришёл к выводу, что применительно к моему методу это довольно сложная техническая задача. На данном этапе исследований проще и дешевле воспользоваться тем, что предоставляет природа.
Всегда находились особо чувствительные индивиды, способные улавливать эти вибрации: шаманы, экстрасенсы, искатели руд и воды под землёй (т.н. «лозоходцы») и прочие. Многие творческие натуры обладают повышенной чувствительностью в этом отношении. Кроме того, с незапамятных времён у всех народов выработаны эзотерические и духовные практики, направленные на то, чтобы развивать такую чувствительность. Известны также «места силы», подобные этому, которые людям в этом помогают. Недаром Алтай славится как магическое место, вотчина шаманов и колдунов, страна древних и скрытых знаний. Кажется, теперь я готов приблизительно объяснить, как воздействуют подобные «места силы» на человеческое восприятие. Волновая активность мозга, если в ней достаточно сильна составляющая «переходных частот», входит в резонанс с природной и таким образом многократно усиливается, как бы подавляя другие частоты и забирая у них энергию. Далее в результате такой «настройки» мозг проявляет максимальную волновую активность именно в этом диапазоне и вызывает соответствующие эффекты, о которых я писал выше. Это, конечно, примитивная и поверхностная схема. Реальные механизмы взаимодействия мозга и «места силы» наверняка неизмеримо тоньше и сложнее. Изучение этой области – дело будущего. Однако сейчас свою главную задачу я вижу не в объяснениях. Она в том, чтобы исследовать возможности усовершенствованного мною метода сенсорной депривации, а вместе с ним и новые возможности человеческой психики, которые как я предполагаю, он позволит проявить. Что очень важно, метод исключает грубое вмешательство в работу мозга, чреватое отрицательными последствиями (как, например, в случае употребления наркотиков). Главное же достоинство моего подхода в том, что открывает всякому нормальному, здоровому человеку естественный путь изучения собственного внутреннего пространства и раскрытия своего потенциала. Отсюда и название, которое я придумал для своего исследовательского проекта: «Интроспектум».
Я отложил чтение. Мысли в моей голове плясали беспорядочно. Хм, «место силы»… Е.Г. ничего подобного мне не рассказывал. Вот оно как, оказывается! Куда сложнее, чем я думал. И куда необычнее.
Профессия научила меня быть реалистом и отвергать всякое сверхъестественное. Да и по складу ума я всегда относился к подобным вещам, мягко говоря, скептически. И уж никак не думал, что они заняли такое место в научных интересах моего друга. Ладно, у всех бывают причуды, и даже выдающиеся умы заносит иной раз чёрт знает куда… Вон, даже Менделеев уделял серьёзное внимание спиритизму, а Ньютон занимался алхимией и писал богословские трактаты.
Но почему Е.Г. до сих пор держал меня (и, насколько я понимаю, коллег тоже) в неведении?
Возможно, он решил хорошенько проверить свои догадки, прежде чем доверять их мне или ещё кому-то. Просто хотел накопить побольше экспериментальных данных. А может, ничего не нашёл на этом пути и разочаровался в своём новом направлении. Решил, что это бесперспективно или вообще заблуждение.
Я вообще-то представляю, что будет, если об этих исследованиях рассказать широкой общественности. Как к ним отнесётся большинство солидных мужей от официальной науки. И метод, и сама область исследований сомнительны, результаты недоказуемы и проверке почти не поддаются. Это уже за гранью, отделяющей науку от мистики. А консервативный научный клан мало кому из своих адептов прощал подобное отступничество. Во всяком случае, трудно потом сохранить репутацию серьёзного учёного.
А может, по какой-то неведомой мне причине он вообще намеревался сохранить результаты своих опытов в тайне. Хотя бы до поры до времени. Не связано ли это с тем, что ним случилось?
Как бы то ни было, у Е.Г. не было резона посвящать других в свои опыты. А почему – сейчас он не скажет, и сможет ли когда-нибудь – вопрос. Мне предстояло разобраться в этом самому.
Я собрал внимание и вновь принялся читать.
Первое погружение я хорошо запомнил. Потом были ещё десятки, и всё более длительные по мере привыкания, и с более мощным и обширным опытом, который я получал раз за разом. Но первый раз – это… ну не знаю, с чем сравнить. Как впервые опуститься под воду с аквалангом или прыгнуть с парашютом. Меня хватило на двадцать минут. Если быть точным, около пятнадцати минут я погружался, т.е. постепенно мозг пытался приспособиться к абсолютной тишине и темноте. А уже потом со мной стало происходить нечто столь необычное, что внутри сработал некий стоп-сигнал. И я прекратил эксперимент.
Это была естественная реакция, что впоследствии подтвердили другие участники опытов. Практически все сначала чувствуют примерно одно и то же. Потом опыт становится у всех разным. Обычное состояние людей можно сравнить с крепостью, внутри которой все находятся и видят одинаковую обстановку. Но стоит выбраться за стены этой крепости (перескочить), как каждый видит нечто своё в зависимости от того, в каком месте оказался после прыжка.
Описывать опыт депривации, как и всякий опыт изменённых состояний сознания – занятие неблагодарное. Понимаешь слабость слов, и вообще неадекватность языка как средства выражения, когда имеешь дело с миром психических состояний. Это понятно: язык сформировался и служит для описания в основном того, что снаружи нас, для передачи внешней информации. Это банальность, уже тысячи раз высказанная многими, кто занимался самопознанием и получил сходный опыт с помощью разных психотехник. Но всё же повторю здесь: кто хочет знать, тому лучше испытать самому.
Я только могу сказать, что было ощущение, как будто я медленно растворяюсь в окружающей среде, как тает лёд в тёплой воде. Это было даже поначалу приятно. Но в какой-то момент нечто внутри запаниковало. Это был страх – слепой, панический ужас, которого я, пожалуй, никогда в жизни не испытывал. Страх полного исчезновения. Это, я думаю, разновидность или форма страха перед смертью. И в первое погружение я не смог совладать с ним. Я подал сигнал наблюдателям: мол, всё, пока хватит. И вылез из камеры.
Если бы я раньше не читал об опыте депривации, то был бы разочарован. Но, во-первых, такой реакции и нужно было ожидать – я же обычный и неподготовленный человек (а скажем, йоги или тибетские монахи запросто выдержали бы это испытание). Во-вторых, это было только начало. А в-третьих – и это главное – энцефалограф, подсоединённый к моей голове во время эксперимента, показал на шестнадцатой минуте резонансный пик – всплеск волновой активности как раз на частоте 8 Гц. То есть мои догадки подтверждались, и это придало мне уверенности и энтузиазма для продолжения экспериментов.
Почему я пришёл к идее этих исследований? Оглядываясь назад, могу сказать: то направление, которым сейчас занимаюсь и намерен заниматься дальше, – самое главное, чего я достиг в жизни. Сейчас я отчётливо понимаю: всё предыдущее, что мне удалось сделать, каким бы важным или полезным оно ни казалось мне самому или другим – было только подготовкой к тому, чтобы подойти вплотную к этой захватывающей области. Но пришёл я к ней не случайно. Нечто вело меня все эти годы, с тех пор, как я ещё в юном возрасте ощутил интерес к внутренней стороне человеческого существования, а немного позднее – к вечным вопросам нашей роли, предназначения и места в мире. Ещё тогда я осознал, что посвящу этому жизнь (каким бы это ни показалось пафосным). Потому что и тогда думал, и дальше всё более укреплялся в этой мысли, что на самом деле нет ничего важнее и интереснее. Это определило и выбор профессии, и все особенности моего жизненного пути.
Ещё в молодости мне хотелось открыть что-то самому. Меня всегда тянуло в неизведанные области. Хорошо это или плохо, но таких областей во всех науках, и в психологии тоже, становится всё меньше. Как бы то ни было, мне удалось найти такую, можно сказать, заповедную территорию, на которую мало кто ступал. Мало того – как можно дальше пройти по тропинке, которую проложили до меня, и протоптать её, сделать удобнее для тех, кто захочет пойти следом и, возможно, ещё дальше. Я думаю, что исследовательский интерес заложен в разумных существах самой природой, – если не во всех, то в наиболее удавшихся экземплярах (с точки зрения эволюции). Благодаря именно этому свойству в людях возникло и развивается всё то, что мы охватываем понятием «цивилизация».
Конечно, стремления к познанию не существует в чистом виде. Всегда есть (или возникают позже) связанные с ним прикладные интересы, всевозможные эмоциональные реакции и мотивации (к сожалению, далеко не всегда столь же благородные по своему происхождению). Об этом свидетельствует вся человеческая история. Но я согласен со многими из тех, кто шёл путём самопознания. Они сходились в одном: жизнь можно улучшить, сделать осмысленнее, гуманнее, гармоничнее, если дать каждому возможность исследовать собственный внутренний мир и понять, кто он такой, зачем он здесь, откуда и куда идёт. Некоторые мастера практического самопознания – скажем, современные буддисты —даже высказывают мнение, что только так и можно решить проблемы, стоящие нынче перед человечеством. С этим можно спорить, но я точно знаю одно. Это знание такого рода, которым нельзя злоупотребить, и которое действительно может поднять Homo Sapiens как вид над его нынешним состоянием.
Заповедь древних мудрецов «Познай себя» актуальна во все времена. Мне кажется, я нашёл новое средство не только познать собственную природу, но и изменить себя (и в какой-то мере мир вокруг) к лучшему.
Чтобы достичь этого рубежа, – я имею в виду, когда наступает резонанс с «переходной частотой», и мозг переходит в иной режим функционирования, – разным людям требуется различное время. Скажем, мне нужно было сначала, как я отметил из своих опытов, 15—17 минут. У кого-то «настройка» длится дольше, у кого-то наступает быстрее: кому-то надо полчаса, а один из испытуемых входил в это состояние за 7—8 минут (у него был приличный опыт аутотренинга и медитаций). Сейчас я понимаю, что это зависит от врождённых индивидуальных особенностей мозга (вообще ЦНС), от различных обстоятельств жизни, повлиявших на здоровье, от «тренированности» мозга (в плане различных психотехник), и даже от уровня и качества полученного образования. Кстати, по мере продолжения своих опытов я отмечал, что мне требуется всё меньше времени на то, чтобы «перепрыгнуть через стену крепости». То есть мозг как бы запоминает это состояние и воспроизводит его всё легче. И тем дольше я способен находиться в этом состоянии без внутреннего психического или физического дискомфорта, который неизбежно возникает как реакция всего организма на непривычные условия. Собственно, и неприятных ощущений становится всё меньше, а сами они слабеют.
Сознание как бы осваивает новую для себя реальность и учится в ней ориентироваться – подобно тому, как постепенно осваивается в мире новорождённый. То, что открывается индивидуальному сознанию после вхождения в резонанс, как я уже отмечал, словами описать очень трудно, в чём-то практически невозможно. Опять же, каждый получает свои переживания, в зависимости от врождённых особенностей своей нейрофизиологии, а также от усвоенной культуры и вообще всего суммарного жизненного опыта. Это как в сновидениях – вариации могут быть бесконечны. Когда исследователь имеет дело с персональной, собственной областью бессознательного, он окунается в неконтролируемый и бесформенный хаос. Однако если он идёт дальше, за пределами личного бессознательного он обнаруживает некие моменты, общие для всех исследователей. Скажем так, это целостные комплексы или паттерны (как принято называть их в современной психологии), которые воспроизводятся в сознании при погружениях. Сюда, прежде всего, относятся архетипы коллективного бессознательного – те самые, о которых писал К. Г. Юнг ещё в первой половине прошлого века.
Однако я встретил ещё немало всякого, что не вписывается в юнговскую классификацию. Мне начало открываться, и довольно скоро – после восьмого или девятого погружения – множество любопытных вещей. Наверное, одна из самых существенных – то, что «психическое пространство-время» (назовём так реальность, которую я изучаю в погружениях), определённым образом организовано и упорядочено. Иными словами, оно имеет свою структуру и свои законы. В первом приближении я бы сказал, что оно многослойно. А слои эти различаются… трудно сформулировать, но попробую: по степени интенсивности самосознания, необходимой, чтобы их достичь. В этом не приходится сомневаться, хоть я и не понимаю природы этой реальности. Понятно, названий для неё придумано уже более чем достаточно. Но это только символы, способ указать или обозначить нечто такое, чему нет аналога во внешней реальности, которую мы привыкли считать единственной и объективной. Возможно, связи внутренней реальности с внешней на самом деле гораздо глубже, а их взаимная зависимость – сильнее, чем нам кажется.
М-да… Это было скорее собранием дневниковых заметок, нежели научным отчётом. Но я начинал понимать: тон задавала сама область исследований. Е.Г. изучал нечто такое, к чему были неприменимы традиционные способы описания. Об этом и можно было писать только так – в виде отрывочных наблюдений и мыслей.
Хотя я всегда считал себя рационалистом и человеком, трезво мыслящим, тема исследований Е.Г. мне не была чужда. Я тоже интересовался вопросами психологии и необычных возможностей человека, хотя всегда подходил к этому, исключая всякое паранормальное и потустороннее. Одно время я работал спецкором и научным обозревателем в штате сотрудников довольно популярного журнала. Находясь на этих должностях, в поисках сюжетов довольно много поездил по стране, да и за её пределами. Побывал в Тибете, в Бурятии, в Центральной Сибири, на Крайнем Севере, включая Кольский полуостров и Ямало-Ненецкий округ. Довелось пообщаться со знахарями, целителями, шаманами, буддийскими священнослужителями различных рангов. Результатом таких встреч стали несколько статей и опубликованных интервью с интереснейшими личностями – как известными, так и не очень, а то и вовсе не известными.
Е.Г., конечно, о том знал. Поэтому вполне естественно, что он решил доверить такое ответственное дело – осветить итоги своей работы – человеку, который более-менее ориентировался в этой необычной сфере. А поскольку, помимо всего, нас связывала многолетняя дружба, моя кандидатура была вне конкуренции.
Насколько там было далеко до подведения каких-то итогов, я мог сейчас только гадать. Чтобы составить определённое мнение о том, чего Е.Г. достиг и каково значение этого, нужно было прочитать всё до конца. И, чёрт побери, в который раз сказал я себе, попробовать самому…