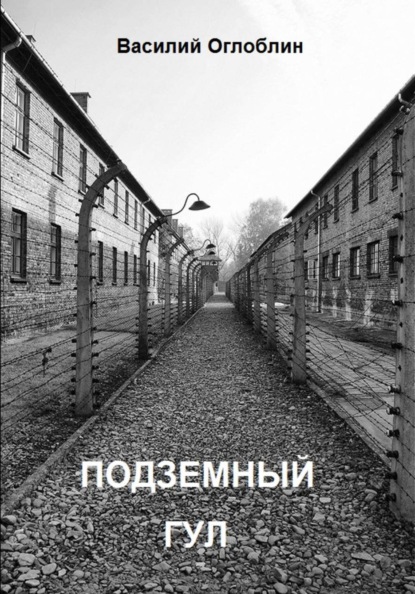
Полная версия:
Подземный гул. Роман в новеллах
На правом фланге шеренги у кого-то нашли гвоздь. Откуда он мог взяться в кармане арестантской куртки – уму непостижимо, ведь из камеры никто никуда не выходит, разве только выносят по утрам парашу, да получают на кухне баланду и хлеб. У кого-то нашли обрывок свежей газеты, марки, и даже небольшую книжонку. Сыпались зуботычины, оплеухи, нок, табак злые голоса орали:
– Ферботен!
– Ферботен!
– Ферботен!
Когда вся одежда была встряхнута, прощупана, вспорота, тюремный офицер, отмахиваясь рукой от пыли, прохрипел:
– За нарушение правил камера лишается пищи на трое суток, марш по местам!
Схватив одежду, толкаясь и спотыкаясь, все хлынули к двери. В камере плавало густое облако бурой пыли. Вспоротые матрацы и подушки валялись по всем углам, личные вещи заключенных были раскиданы по всему проходу между нар, параша перевернута вверх дном и от нее на середину камеры текли жидкие темные ручьи. Прошло не менее часа, пока камера успокоилась Макс тронул меня за локоть.
– Ты хотел спать, камрад, залезай под нары и поспи, койки днем оттягивать от стенок нельзя, ферботен, – в голосе его прозвучала ирония, – заметит надзиратель, еще на три дня лишат пищи. Вечером, ночью поговорим. Ночи тут длинные.
Я залез под крайние нары, свернулся калачиком и быстро уснул. Засыпая, я слышал, как чья-то осторожная рука приподняла мою тяжелую голову и подсунула под нее жесткую подушку. Проснулся я внезапно, как и уснул. Меня кто-то тормошил. Открыв глаза, я увидел улыбающееся лицо Молчуна.
– Вставай, камрад, поверка.
Я ошалело соскочил и встал крайним в шеренгу. Та же процедура: драйцитфиршиг. Тот же самый офицер, пересчитав заключенных, заглянул в блокнот, заорал, растягивая изжеванное лицо.
– Нох айн манн?
И тот же голос надзирателя торопливо и услужливо подсказал:
– Айн манн кранк, герр оберлейтенант.
– Я, я…
В камере становилось прохладнее. В отпотевшие окна стал чаще залетать сырой вечерний ветер. На земле по-видимому шел дождь. Люди, сморенные голодом, заметно присмирели, переговаривались неохотно, вялыми голосами, только безумный пастор энергично крутил ручку воображаемого спининга и шумно, по-детски восхищался пойманной рыбой.
– Форелле!..
Не приходящий в сознание больной метался под нарами, хрипло выкрикивал ругательства и какие-то непонятные, но жутковато произносимые фразы. Часы на сторожевой башне пробили одиннадцать ударов. Заключенные мало- помалу расползались по нарам и койкам.
– Самое спокойное время в тюрьме – это ночь, тихо сказал мне Макс. После отбоя в камере наступила тяжелая, гнетущая тишина. Спасаясь от духоты, мы с Молчуном и Максом сели на койку под окном. Из него немного подувало. Дышать было легче. Я спросил Молчуна.
– Молчун, как тебя звали раньше?
– Раньше я был Фрицем Шульце. А теперь стал Молчуном.
– Почему?
– В тюрьмах всегда и всем дают клички. Имен нет. Есть номер и кличка, как у собаки.
– Молчун, я русский пленный и сижу за побег. А за что ты сидишь?
Молчун насупился. Долго молчал. Ответил нехотя.
– Сижу за то, что отказался идти на войну. Убивать. Я не хочу убивать. Это противно закону жизни.
– Ты отказываешься убивать по религиозным мотивам? Не убий?
– Молчун не понял, о чем спросил камрад?
– Ну, твоя религия запрещает тебе брать в руки оружие и убивать себе подобных?
– Нет. Я католик. Но я не верю ни в бога, ни в черта. Я верил только в жизнь и в свои руки.
– Где твоя родина? Родная земля?
– Моя родина Тироль.
– Если бы на твой Тироль напали враги, ты пошел бы защищать его?
– Тироль? Я бил бы врагов до своего последнего вздоха.
– И убивал бы?
– И убивал бы. Это совсем другое дело. Это называется защищать жизнь. И я бы защищал ее.
– А может быть ты, Молчун, струсил идти на войну? – рассмеялся Макс.– Струсил, что тебя могли убить? Струсил убивать?
– Чтобы убить себя требуется большая храбрость, чем убить другого, – мрачно ответил Молчун, – а отказавшись идти убивать других, я убил себя. И пусть. Лучше себя, чем других. И те, кто пошли убивать других – тоже пошли убивать себя, ибо сказано в Бытие: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека…
– Не обижайся, Молчун, я пошутил. Ты не трус. и вообще в тюрьме не бывает трусов.
– У нас в народе говорят: "Смелого ищи в тюрьме, а глупого в папахе", -
сказал я.
Все рассмеялись.
– Русские – очень мудрый народ. Расскажи, камрад, о России.
– Расскажи, камрад, – попросил и молчун. Длинные худые пальцы его рук опять сомкнулись в замок и легли чуть ниже острых колен. На тонких бледных губах застыла напряженная улыбка, а глаза были добрые, добрые и печальные, печальные, как у обиженной собаки, и улыбка на губах живая, добродушная, а не фальшивая. Подошел и сел рядом с молчуном знакомый мне разжалованный офицер, с которым я стоял рядом на обыске. Разбитые губы вздулись и посинели. В глазах, чистых и печальных загустилась боль. Я понял, что с тем, отнятым на обыске медальоном оборвалась последняя тонкая ниточка, которая связывала юношу с семьей, с родительским кровом, со всей прежней жизнью, и было ему до слез жаль мамин медальон.
– Вот и еще один, не захотевший убивать, – сказал Макс, обнимая юношу. – Так ведь? За что ты сидишь рядом с нами в одной камере?
– Не захотел ехать на фронт. Был в недельном отпуске после госпиталя. Не явился по вызову. Спрятался. Гестапо нашло, разнюхало и сюда, – застенчиво улыбнулся юноша. – Разве от них спрячешься? Они вездесущи.
– Решил умереть сам, но не убивать других?
– Лучше уж сразу, чем там. Там столько нечеловеческих страданий, столько ужаса, столько крови. Столько жестокости и варварства. Когда мы вырывались под Прохоровкой из плотного кольца, на нас обрушилась такая ла- вина огня, что не было спасения ни на земле, ни под землей. Ад, сущий ад Многие рвали на себе волосы, многие сходили с ума…
– Да, несправедливая захватническая война страшная штука, – задумчиво проговорил Макс, – она убивает не только людей, тело, но и душу. Расскажи, камрад о России.
Макс положил мне руку на плечо, и я начал тихо рассказывать о далекой родине, о своих побратимах-парашютистах, о своем последнем бое в тылу, когда погибли почти все, а меня какая-то злая судьба уберегла, сохранила, видимо для того, чтобы пройти еще и этот скорбный круг по аду. Камера набухла больной тюремной тишиной, словно свежий бинт набухает сукровицей. В тюремных камерах слушают как-то необыкновенно, завороженно и таинственно, на свободе так слушать не умеют.
Было уже заполночь, а камера не ложилась спать. Встревоженный надзиратель несколько раз отсовывал заслонку волчка, заглядывал в него, стучал в дверь, грозил наказать, но на его угрозы никто не обращал внимания. Камера жила в эту ночь новой непривычной жизнью. Пастор, наловив форели, не взбунтовался как обычно, а подошел и спокойно сел со всеми, вслушиваясь в то, что я говорил. Молчун старался не проронить ни одного слова.
– Парень смерти ждет, – кивнул мне Макс на Молчуна, – батрак, неграмотный, а понял, где на земле правда. И философия у него мудрая, мудрейшая; он часто любит повторять слова из святого писания: кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется…
– Да, – соглашался я, – умный парень. Жаль, на земле так мало настоящих людей, говорящих друг с другом Не падким на лукавство и ложь разумом, а сердцем.
Молчун прислушивался к незнакомой русской речи, Макс говорил со мной по-русски, и будто понял, что речь идет о нем, дотронулся головой до моих коленей, потерся словно собака, попросил тихо, ласково:
– Камрад, спой русскую песню. В Лихтенбурге, в одном блоке, со мной были русские. Вечерами они пели вполголоса. Темень. Сиротливо на душе, а они поют. Печально так, протяжно, словно молитвы. Душу разрывает. Я уткнусь лицом в нары и слушаю, слушаю, а душа плачет, плачет. А потом вдруг легче станет. Песня русская боль с души снимает. Спой, камрад, на прощание. Мне легче станет.
– Почему на прощание? Ведь мы же еще не прощаемся.
– Здесь не знаешь, когда расстанешься…
Я понял, да и по себе знаю, что у обреченных смерти людей после жесточайших душевных потрясений, после невыразимых словами мук, доходящих до потери рассудка, наступает полное, абсолютное равнодушие к собственной судьбе, остается одно омерзение и гордое высокомерное пренебрежение к своим палачам, как к полнейшим ничтожествам, не наделенным судьбой наивысшим достоянием человека – гордым духом и чувством достоинства.
– Спой, камрад. Знаю я, чувствую, что недолго мне…
– Ладно, камрад, спою для тебя, – сказал я, – только голос у меня заржавел. Раньше сильный был, звонкий, а теперь заржавел.
– Спой ржавым.
Я удобнее устроился, откашлялся и тихо запел старинную уральскую казачью песню, которую узнал от отца еще в раннем, раннем детстве.
Знаю, ворон, твой обычай, -
Ты сейчас от мертвых тел
И с кровавою добычей
К нам в деревню прилетель…
Слова в песне были протяжными и печальными, и в них была какая-то, самому мне непонятная, глубокая волнующая сила. Последние две строки каждого четверостишия я повторял дважды, это еще сильнее подчеркивало безысходную печаль и безутешность человеческого горя.
Вдруг кольнуло под сердечком,
Накатилася слеза,
Я узнала по колечку,
Чья у ворона рука…
Молчун долго смотрел на меня своим детским невинным взглядом, потом насупился, ушел в себя, перестал раскачиваться. Так продолжалось довольно долго. Наконец он встряхнулся, выпрямился, вскинул голову, спросил:
– Расскажи, камрад, о чем поется в песне?
– А, в песне поется о том, как разговаривала невеста с вороном. Ворон прилетел в село с поля кровавой битвы и в клюве у него была человеческая рука, невеста узнала по кольцу на безымянном пальце руку своего любимого, своего жениха.
– Спасибо, камрад. Хорошая песня. Знал бы твой язык – запел бы эту песню перед казнью. Да не знаю. Плюну всем им в рожи перед смертью, все легче будет с жизнью прощаться. Я ведь, камрад, еще и не жил совсем, так и не узнаю, что оно такое жизнь человеческая. Ничего кроме грязи, гнили и пакостей не видел. И людей-то настоящих, душевных, готовых за брата душу положить встретил только тут, в тюрьме и в Лихтенбурге, а там, в той, другой жизни только зло, зависть, ненависть, подлость, глотки один другому порвать готовы. Грязная жизнь…
– А, как здесь убивают? Расстреливают? Вешают?
– Смерть, какой бы она ни была – все равно смерть, – тихо сказал Макс. В этой тюрьме, по слухам, вполне достоверным, гильотинируют. Отсекают на гильотине голову. Как Емельяну Пугачеву. Только не топором и без палача. Мы живем в век цивилизации. У нас каждый второй – палач.
– Ясно…
Молчун поднял голову. Долго смотрел на квадрат окна, за которым начало заметно сереть.
– Светает уже. И дождик идет. По ком плачет небо теплыми весенними дождинками? По мне плачет небо, камрады. По мне. Скоро вот и зорька зарумянится. Только я ее уже не увижу. Хороши зорьки в нашем краю. Выйдешь на рассвете. Тихо вокруг. Ветер с березками и буками балуется. Горы в голубом тумане и кажется, что они дымятся. Небо светлеет, розовеет. На востоке из мглистого окоема медленно, медленно поднимается огромное солнце и обрушивает на горы потоки теплого света. На душе хорошо. Жить хочется. Как недавно и как давно это было. А хорошо на земле, ох, как хорошо. Жить бы да жить, если бы не эти чудовища, фашисты. Хотели заставить Фрица идти убивать людей другой страны, другого языка, людей, которые поют такие печальные песни о невесте. Файгенбаум!14. Лучше сам умру. Но им моя невинная кровь отольется…
Он разметал в стороны могучие руки, зевнул.
– Ох, и силы в тебе, Молчун, на десятерых бы хватило! – восхищенно сказал я. – Весь из мускулов.
– Силушка есть, да не пригодится она. Бауэр, хозяин мой, новый свинарник строил, лес надо было со станции доставить в именье. Дал мне наряд на утро запрягать битюга и ехать за бревнами. Ночь была теплая, лунная. Думаю себе, а что я буду ждать утра да животное зря мучить, и за ночь легонечко, посвистывая и на луну поглядывая, все буковые комли перенес и уложил штабелем на то место, которое хозяин указал. Утром он на меня с кулаками: "Лошадь надорвал!" А я смеюсь и говорю ему: да не трогал я битюка, на себе за ночь бревна перенес. Хозяин за голову схватился: "Силища в тебе, Фриц, не человеческая, а дьявольская". И хотя скупой был и жадный, преподнес мне рюмку шнапса и бутерброд с ветчиной. Да, камрады, силенка у Молчуна есть, да никому она не нужна.
– Разведчик бы из тебя ловкий получился, – рассмеялся я, – по тылам бы ходил, языков таскал, железные кресты хватал.
– Мне бы березовый кто поставил, так не поставят, зароют как собаку и место то сравняют с землей…
В камере снова раздался странный цокающий звук. все вгляделись в полумрак.
– Это пастор. Где вы, святой отец?
Тучная мешкообразная фигура лазила на четвереньках около вонючей параши, причмокивая губами и хватая руками воздух.
– Святой отец поросят ловит, опять разбежались, озорники. Вилли, помоги пастору согнать поросят, пусть он успокоится и уснет, – обратился макс к пожилому немцу, сидевшему рядом, – ты лучше других умеешь помочь ему.
– Может быть подремлем часок, подъем скоро, предложил Макс, зевая. Я тоже зевнул, посмотрел на окно. Занимался бледный рассвет.
– Давайте поспим.
Я и Макс вдвоем легли на узкую койку валетом. На соседней вытянулся Молчун, заложив под голову длинные руки. Я спросил у Макса шепотом.
– Отто, надзиратель, сказал, что это самая страшная камера в тюрьме. Почему?
– Отто прав. Здесь большинство сидящих – смертники. И приговоренные судом к смертной казни и просто без суда, но обреченные по закону о превентивном заключении. Почти каждую ночь уводят. и никто не возвращается. Есть, дорогой мой, приказ, подписанный Кейтелем. Называется он "Мрак и туман". В этом приказе черным по белому написано о том, я цитирую: "Фюрер придерживается такого мнения, что наказание в виде лишения свободы, а также пожизненная каторга рассматриваются им как признак слабости, эффективного и длительного устрашения можно достичь только смертными казнями…" Так-то. Впрочем, ваш Сталин, насколько нам известно, в этом вопросе – единоверец с Гитлером…
Я был поражен его осведомленностью, ведь приказы-то секретные, и спросил.
Вы с тридцать третьего года в тюрьмах. Откуда вам это известно.
– Откуда? – Макс скупо улыбнулся, сел рядом со мной, похлопал меня по плечу. – Не удивляйся. Нам даже в тюрьме многое известно. Очень многое. А потом запомни, друг, в тюрьме всегда все знают, знают больше, чем на свободе. В тюрьме стены информируют. Я могу тебе даже рассказать о том, как Сталин, физически истребив всех соратников Ленина, свернул круто с ленинского пути, как он, уничтожив всех крупных военачальников Красной Армии, обезглавил ее, как он, создав искусственный голод, истребил в тридцать третьем году десятки миллионов украинцев и казаков, как он в тридцатом истребил русского мужика. Как он… Коммунисты Германии не одобряют это. Они все остались ленинцами и ни один из них не назовет себя сталинцем. Сталин грубо и дико деформировал саму идею социализма, как, впрочем, и Гитлер.
Он засмеялся совсем молодо, раскатисто.
– Видишь ли, мой друг, я знаю то, чего не знаешь даже ты, не так ли?
В тюрьме все знают. Давай спать.
– Давайте спать. Только я еще спрошу вас…
– Тебя…
– Ну, тебя. А что за человек надзиратель Отто?
– Отто – осел, – как-то нехотя ответил макс.
– Но у него добрая душа, он делает поблажки заключенным. С такими как Отто легче. Он так по-человечески, по-доброму разговаривал со мной, когда вел сюда, в тринадцатую.
– Добрая душа? Может быть и добрая. Только доброта эта, друг мой, пассивная. И потому, очень вредная и очень опасная. Вот такие как Отто и открыли дорогу нацизму. Молчаливое соглашательство со злом – это соучастие в зле. Если ты не против фашизма, значит ты за фашизм. А то, что фашизм величайшее в мире зло за всю историю человечества, так это даже глупцу понятно. И у вас, мой друг, такие люди как Отто помогли Сталину узурпировать власть. Злобный маньяк, невежественный и дикий кавказец, искуснейший в интригах и расправах, он одержим только одной страстью – жаждой неограниченной личной диктаторской власти. Сталинский казарменный социализм может в конце концов перейти лишь в фашизм. Да, да, в фашизм.
Эти тихие слова Макса обрушились на мою голову как огромная сдвинувшаяся гора, грозясь размозжить ее. Я был потрясен услышанным, все это не укладывалось ни в моем сознании, ни в моей душе. А Макс продолжал
шептать:
– Он добр душой, твой Отто, но добро это неразумное. Его добро может быть и зачастую бывает в дружбе со злом. А это преступно. Только тот по праву может назвать себя служителем добра, кто непримиримо ненавидит. Иногда, даже ценою своей жизни. Вилли вон тоже зло и борется с ним. очень добр, но он сидит в тюрьме, а не служит с молчаливого согласия своей совести тюремным надзирателем. Я презираю таких людей как Отто.
– Возможно он прозреет…
– Поздно прозревать.
Он отвернулся от меня и скоро его дыхание стало ровным, чуть надсадным, с хрипотцей. Я закрывал слипающиеся глаза, но сон не приходил. Я долго и мучительно думал над словами Макса и все в моих мыслях путалось
"Как же так, – думал я, – мы боготворим Сталина, величайшего вождя всех времен и народов, с его именем мы шли в атаки, с его именем умирали мои друзья. А коммунисты Германии называют его злобным маньяком, диким и невежественным, узурпировавшим в стране власть, они не хотят называть себя сталинцами. "Свернул с ленинского пути… обезглавил Красную Армию". Но ведь это были враги народа. Погибли от голода десятки миллионов людей… но ведь это был голод. Уничтожил мужика… но ведь это был год великого перелома…"
Совершенно ошеломленный всем услышанным здесь, в фашистской тюрьме из уст немецкого коммуниста, соратника и друга Тельмана, я растерянно перебирал в памяти события моей юности и путался, путался, блукал в своих мыслях как слепой возле тына. Потом перед глазами встали лица только что узнанных людей. Какие они все разные и какие все одинаковые. Сколько в каждом из них настоящего, не показного мужества! Сколько веры в жизнь и жажды жизни! Сколько за плечами у каждого из них борьбы и страданий! У Вилли за плечами одиннадцать лет тюрьмы и концлагерей, у Макса тоже. Оба они коммунисты. Они не носят в грудном кармане под сердцем красную книжечку с силуэтом Ленина, они несут его образ, его великие идеи в сердце, несут через все муки и испытания. Они верят в правоту своего дела и гибнут за эту веру. Вот у кого поучиться жить и служить народу, человечеству. И не верить Максу я не мог. По-видимому, что-то у нас не так, что-то я не понимаю, что-то просмотрел своим еще незрелым умом. А Молчун… Как он добр и мягок душой. "Песня русская боль с души снимает". Каким мягким, теплым, дрожащим светом сияли его глаза, когда я пел песню. Где-то в глубине, под этим светом были слезы, чистые, детские, только они никак не могли пролиться, сердце и душа у человека окаменели от страданий.
Мои раздумья прервал тягучий скрип двери. Я открыл глаза. Яркий сноп света разрубил камеру пополам, потыкался в углы, прополз по сводам потолка.
– За кем-то пришли, тревожно прошептал проснувшийся Макс, пробил чей-то час…
Зычный голос прокричал:
– Камера тринадцать! Ауфштеен! Ахтунг! Ахтунг!
Камера поспешно сорвалась с мест. Все, зевая и протирая глаза, выстроились в проходе вдоль нар. Замерли, ожидая, кому предстоит сделать сейчас, в тихий предутренний час свои последние шаги по глухим коридорам в подвал, где они оборвутся навсегда. Восхода солнца нового дня этот человек уже не увидит. Тишина стояла такая, что, казалось, на плечи всем легли каменные своды потолка и давили, давили.
– Заключенный Фриц Шульце по кличке Молчун – с вещами на выход!
– Быстро!
– Вот и поспали, зло сплюнул Молчун. – Прощайте, братья!
Сноп света снова рассек камеру и туда, откуда летели колючие иглы лучей, спокойно и твердо шагнул Молчун. Шел он почти прямо, со скрещенными на мощной груди руками. Вещей у него никаких не было и нести ему было нечего, а руки он любил скрещивать то на груди, то в ногах. Когда у дверей ему надевали стальные наручники "браслеты", он оглянулся. В ярком свете фонарей глаза сверкнули остро и зло. Он низко, в пояс поклонился камере.
– Прощайте, камрады!..
Дверь медленно насунулась, с минуту были слышны удаляющиеся по коридору шаги, потом все стихло.
– Вот и нет нашего Молчуна, – грустно сказал макс, – славный был парень. И здоровый. Жить бы да жить до ста лет…
– А может быть еще не смерть, может переводят куда-то? – робкую надежду высказал я.
– Нет, друг, здесь так не бывает.
И, помолчав, добавил:
– Если и переводят куда-то в концлагерь или другую каторжную тюрьму, так это бывает днем и не по одиночке, а скопом вызывают, человек по сто, двести. А если на рассвете и по одному, то туда, в подвал, а где он – никто не знает, потому, что обратного пути оттуда нет. Эту тайну каждый уносит с собой.
А еще через час камера жила суматошной утренней жизнью. Вынесли парашу, наполненную до краев. Отстояли на поверке. Собрались идти за бачком утреннего кофе – мутноилистой бурды, но вспомнили, что лишены на трое суток пищи, выругались и притихли. Проснувшийся пастор ловил форель, удивлялся, всплескивал руками, хлопал ладонями по ляжкам, хохотал. Смотреть на него было жутко. Макс, закинув руки за спину, привычно перешагивая через лежащих и сидящих товарищей, делал утренний моцион – двенадцать шагов к двери, двенадцать назад. А за окном шумел дождь. Крупные капли все чаще и чаще падали на подоконник, текли и расплывались по серому грязному бетону, на срезе снова собирались в капли и обрывались на пустую койку Молчуна.
– Кап,
– Кап,
– Кап…
"По ком плачет небо? – вспомнил я его слова. – По Молчуну плачет небо…"
Так горестно закончились для меня первые сутки в тринадцатой камере каторжной тюрьмы. И может быть впервые в жизни я осознал тогда, понял душой и сердцем житейскую мудрость: мы тянемся к людям, распахиваем перед ними свою душу, словно отдавая всего себя, жаждем их дружбы, доверия близости только для того, чтобы расстаться с ними навсегда, что вся наша жизнь состоит из мимолетных радостных встреч и горьких вечных разлук.
И потянулись до жути однообразные, тоскливые тюремные дни и ночи. Вечерами мы по обыкновению долго не спали, проводя время в беседах. За это время я наслушался столько разных историй, что если бы их можно было записать, то получился бы многотомный свод человеческих судеб, драм, трагедий. Из рассказов товарищей перед моим воображением медленно проплывали тысячи лиц, характеров, нравов, так велика и многообразна человеческая жизнь. Каждое утро на рассвете сгустивщуюся темноту камеры, когда мы уже засыпали, рассекали острые лучи фонарей, звучало зловещее "Ахтунг" и кто-то уходил. Камера после этого глухо гудела, чесалась, стонала и уже никто не мог уснуть. Кто же на очереди? Об этом не говорили, но я понял, что каждый, проводив очередную жертву, думал о том, когда настанет его черед. И это ожидание было молчаливой, но страшной пыткой.
На пятое утро подняли спящего пастора. Он покорно встал, недоуменно обвел камеру пылающим взглядом, понуро побрел к двери, покорно дал надеть на руки "браслеты". Но когда ему надели наручники, он гневно повернулся к камере, вознес скованные руки вверх и громовым голосом прокричал:
– Братья мои! Доколе свет с вами – веруйте в свет, да будете сынами света! И сказал господь: да будет трижды проклят аспид и сатана Адольф Гитлер и низвергнут в адище. А вы, братья мои, воскреснете из тьмы кромешной. Аминь!
Его схватили сильные руки, поволокли, затыкая рот и избивая. Долго еще были слышны его обрывочные вопли, глухой шум ударов, дикая ругань.
– Не для меня глас сей…
– Парфлюхте гунде…
– Но для народа…
– Руэ!
В камере сгустилась тяжелая тишина. И в этой тишине, как бы продолжая громовую речь пастора, прозвучал голос Макса.
– Да, камрады, смерть зачастую бывает и гуманной, бывает и спасительницей, она избавляет от страданий.
Вслед за пастором на следующее утро увели разжалованного офицера, с которым я вместе стоял на обыске в первый день. Ему, как я узнал, скоро бы исполнилось девятнадцать. Я вспомнил его слова, сказанные с детской наивностью и доверчивостью: " Мама,.. на шею, когда уезжал на фронт…" И никогда не узнает его мама, какой смертью погиб ее сын, как и где он встретил свой смертный час, получит казенную бумажку! "Погиб, защищая родину…" А сын ее действительно отдал свою жизнь за родину, за будущее своей родины, за счастье всех людей.
А жизнь продолжалась, текла своим чередом. Она всюду течет, где есть живое. Даже тут, в вымирающей камере. За эти дни я близко сошелся с немецким коммунистом Максом Хааг. Макс до этого сидел в Баутценской политической тюрьме. Из его рассказов я узнал, что с начала мая сорок четвертого года там, в одиннадцатой камере на втором этаже первого корпуса сидит Эрнст Тельман. Макс почти ежедневно видел его по утрам, когда тот делал часовую прогулку в тюремном дворе. Гулял он час и после обеда.

