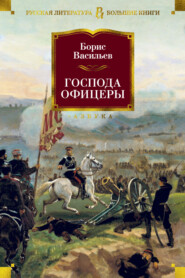скачать книгу бесплатно
– Ты возмутительно вела себя с князем, Мария. Возмутительно!
– Возмутительно?
– Воображаю, что он мог подумать. Что он мог подумать!
Маша ничего не ответила. Что-то безнадежно горькое звучало в тоне сестры, настолько горькое, настолько не соответствующее словам, что Маша не обиделась, а испугалась. И не хотела признаваться в этом страхе, чувствуя, что если признается в нем, то ей будет стыдно за Варю. Поскорее прошла к себе и постаралась тут же заплакать, еще по-детски веря, что слезы смывают все неприятности и скверны. Но поплакать всласть ей не удалось: вошла Варя. Вошла так стремительно, что Маша не успела прикинуться равнодушной.
– Прости меня, Маша.
И опять слова были отделены от тона, и опять Маша слышала сначала тон, а уж потом то, что говорилось.
– Ты уже взрослая, – продолжала Варя, старательно глядя в сторону. – Судя по двум примерам, вполне взрослая, и… и я решила говорить с тобой как со взрослой женщиной. Нам будет трудно, я догадываюсь, но разговора этого не избежать, и… и если ты не против…
– Я не против.
– Вот и прекрасно, прекрасно. – Варя решительно прошлась по комнате, решительно нахмурила брови. – Мы – сестры, мы должны быть откровенны, и если даже откровенность эта покажется тебе обидной, то…
Она замолчала, глядя в сторону. Маша внимательно следила за нею, видела эту выставленную напоказ решительность, понимала, что Варе трудно, и с непонятным злорадством ждала, что же она скажет. Понимала, что поступает скверно, ругала себя за это вдруг пробудившееся в ней злорадство и – ждала.
– Мы родные сестры, но мы не одинаковы. Ты моложе и… и привлекательнее. – Варя с трудом выдавила из себя это признание. – Да, ты привлекательнее, ты умеешь легко увлекать, ты… ты обольстительна, если тебе угодна моя прямота.
– Это скверное слово, Варя, – тихо сказала Маша; в душе ее гремели сейчас фанфары, но она изо всех сил старалась быть скромной. – Я понимаю, что ты хотела сказать этим словом, и прощаю тебя.
– Ты прощаешь меня? – Варя близко заглянула в лицо и неприятно улыбнулась. – Благодарствую, сестрица. Я тащила на себе семью, Мария. Я, забыв обо всем, о молодости, о радостях, о соловьях в этом саду… – Она вдруг оборвала себя, словно проговорившись. Медленно провела рукой по лицу, отвернулась. – Мы не можем одновременно выйти в дверь: кто-то должен уступить дорогу, – как-то нехотя, словно уже утратив интерес к разговору, сказала она. – И я прошу тебя… Нет, я требую, чтобы ты…
– Не надо, Варя, милая, не надо! – Маша, не выдержав, бросилась к сестре, обняла сзади за плечи. – Прости меня, что я раньше не прервала, прости, что мучила. Я скверная, Варя, я эгоистка, вот кто я такая. Но я все поняла. Все! Не тревожься…
Варя холодно отстранила Машу и молча вышла из комнаты, старательно выпрямив и без того вызывающе гордую спину.
На второй день князь явился с ответным визитом. Маша пряталась в своей комнате, пыталась читать, но не видела строчек, а если и видела, то не понимала. Она слушала. Слушала напряженно, всем существом, всеми силами, хотя до гостиной, где Варя оживленно болтала с князем, было далеко и услышать она ничего не могла. И она знала, что не может услышать ни единого звука, и все равно слушала до звона в ушах. Такой напряженно прислушивающейся ее и застала Софья Гавриловна.
– Мари, это что за новости? Почему ты прячешься, как ребенок? Князь дважды спрашивал о тебе.
– Пусть. – Маша упрямо надула губы. – Я читаю и никого не хочу видеть.
– Но это же неприлично, сударыня, неприлично. Немедля извольте пройти в гостиную. Немедля!
– Не пойду. Хоть зарежьте.
Тетушка мгновение остолбенело глядела на нее, а потом безвольно рухнула на кушетку.
– Маша, не истребляй, – проникновенно сказала она. – Не истребляй во мне порыва. Не истребляй.
– Я ничего не истребляю.
– А я не сплю ночами, – строго поведала Софья Гавриловна. – Я думаю, задумываю и передумываю. Когда у тебя будут дети, ты поймешь и устыдишься. И это будет утешением в моей одинокой могиле.
– Тетушка, – почти с отчаянием сказала Маша, захлопывая книгу. – Вам хочется кого-нибудь осчастливить? Так осчастливьте Варю, она ждет этого. А я потерплю. Мне еще пансион кончить надо.
Про пансион она схитрила, ибо думала о нем почти с отвращением. Схитрила по-детски, в данный момент не задумываясь, что ее слова могут прозвучать обещанием. Ей хотелось, чтобы ее оставили в покое, в ее покое, который заставлял слушать то, что заведомо невозможно услышать, и читать, не понимая ни единого слова. Это был покой неустойчивого равновесия, но она не желала, чтобы кто-либо извне нарушал это равновесие. В нем заключалась сладкая возможность выбора, и этой возможностью Маша сейчас дорожила пуще всего на свете.
– Ну что же, – проговорила тетушка после глубокого размышления. – Ну что же, по-своему ты права. Ты не эгоистка, а значит еще не влюбилась. Только не думаю, чтобы князь приехал еще раз.
Маша тоже не думала, и ей было чуточку грустно. Но грусть эта была торжественной, как в церкви.
Князь и вправду больше не появлялся, подчеркнув тем самым, что визит его был всего лишь вежливо-ответным. Более они не встречали его, хотя дважды выезжали вместе с Александрой Андреевной: тетушка стремилась расширить круг знакомств. Но поскольку сама Софья Гавриловна в князе не была заинтересована, полагая его женатым, а потому как бы уже и не первого сорта, то и не задавала наводящих вопросов. И тусклые глаза усталого аристократа стали забываться вкупе с его приклеенной улыбкой.
2
Полковник Хорватович был плечист и высок, а походный зипун, который он никогда не застегивал, и широченные, заправленные в высокие австрийские сапоги шаровары делали его громоздким и неуклюжим. Но впечатление было обманчиво: двигался командир корпуса легко и стремительно, говорил, энергично отрубая фразы, действовал без колебаний, и сорокалетние глаза его до сей поры не растеряли юношеской синевы.
Для подробного рассказа он оставил в палатке одного Олексина, попросив выйти даже собственного начальника штаба. При докладе не перебивал, лишь коротко осведомился, когда Гавриил закончил:
– Это все?
– Все, господин полковник.
– Больше нечего доложить?
Олексин пожал плечами. Хорватович пристально посмотрел ему в глаза, кивнул:
– Садитесь.
Прошелся по палатке, взмахнув полами распахнутого зипуна, выглянул наружу. Потом, размышляя, постоял над поручиком и сел по другую сторону дощатого стола.
– Нет, не все, поручик.
– Простите, полковник, я вас не понимаю.
Хорватович не глядя выхватил из лежавшей на столе папки письмо, протянул Гавриилу, продолжая в упор глядеть на него синими глазами:
– Ознакомьтесь.
Это было донесение Медведовского. Полковник объяснял изменение своего маршрута в связи с нападением черкесов и вынужденным сопровождением батареи Тюрберта до сербских позиций. Все было правильно, но все это не касалось ни поручика, ни его доклада. Он читал, не понимая, зачем Хорватович знакомит его с рапортом, и лишь в конце, в приписке, понял, в чем дело.
«При внезапной атаке черкесов русско-болгарским отрядом поручика Олексина был захвачен в плен командир черкесов Ислам-бек, имя которого, безусловно, знакомо Вашему превосходительству. За час до моего прибытия указанный пленный бек был отпущен на свободу лично поручиком Олексиным. Ставлю Вас об этом в известность, усматривая в этом проступке не просто доверчивость офицера, но прямое попрание им воинского долга, почему и ходатайствую о немедленном откомандировании поручика Олексина в распоряжение штаба генерала Черняева с последующим лишением волонтерских прав и принудительной высылкой в Россию…»
В приписке было что-то еще, но Гавриил не стал читать до конца: так засосало, заныло вдруг под ложечкой. Аккуратно сложил письмо по сгибам, протянул Хорватовичу:
– Прикажете сдать оружие?
– Объяснитесь.
– Долго, полковник. Да и вряд ли вы поймете.
Хорватович помолчал, постукивая сложенным рапортом о плохо струганные доски стола. Потом сказал:
– Ислам-бек вырезал два села. Вырезал буквально, не пощадив ни детей, ни стариков, за что и объявлен вне закона. Я понимаю, вы могли об этом не знать, но незнание не является оправданием, поручик.
– Я не пытаюсь оправдываться.
– И по-прежнему считаете себя правым?
Олексин долго молчал. Потом встал, извлек из кобуры револьвер и положил его на стол.
– Жду ваших приказаний, господин полковник.
– Приказаний? – Хорватович зябко поежился, запахнул зипун. – Проклятая лихорадка, бьет второй месяц. В центре нашей позиции находится возвышенность. Она выдвинута вперед, делит корпус пополам, и, пока она у меня в руках, турки не могут продвинуться ни на шаг. Я поставил на эту высоту батарею Тюрберта, а прикрывать ее будет рота, усиленная вашим отрядом. Рота наполовину состоит из сербских войников; естественно, они не будут знать о вашем великодушии, но вы об этом помнить должны. Возьмите оружие и извольте принять роту.
Олексин неуверенно протянул руку к револьверу и снова отдернул, продолжая с молчаливым удивлением смотреть на полковника.
– Вы не расслышали приказа? – Хорватович вздохнул, потрогал пальцами лоб. – Все правильно, сейчас свалюсь.
– Может быть, врача? – спросил Гавриил, заталкивая кольт в кобуру.
– Врач умеет только отпиливать конечности. Слушайте, поручик, почему вы так неумеренно пьете?
– Я не пью неумеренно, господин полковник.
– Да не вы лично, а господа русские офицеры, во всяком случае многие из них. – Он неожиданно усмехнулся. – Из-за этого пристрастия я вынужден держать в своей палатке ведерную бутыль ракии.
– Угощаете господ русских офицеров? – Гавриил попытался сказать это легко, но улыбка вышла кривой, да и вопрос прозвучал достаточно криво.
– Мне надоели постоянные жалобы на вашу невоздержанность, и, чтобы положить этому конец, я объявил пьяницей себя. – Улыбка у Хорватовича тоже не получилась. – Жалобы прекратились, но пьянство осталось. Вы догадались, у кого вам предстоит принять роту? У пьяницы, поручик. Прискорбно, но этот пьяница – отставной полковник русской службы. Он явился сюда с претензией на бригаду, но у меня была только эта несчастная рота. Полковник покорился судьбе, но впал в амбицию: месяц беспробудно пил, и от роты осталось чуть более половины. Учтите это и постарайтесь сдержаться, когда будете принимать людей и хозяйство: мне и так хватает ссор. Удивлены?
– Признаться, да.
– В моем корпусе восемнадцать национальностей. Восемнадцать, поручик! Все горят желанием помочь несчастной Сербии, но все – на свой лад. Оркестра нет – есть музыканты, а единых нот штаб так и не удосужился выслать. И все играют свою музыку и кричат, что фальшивит сосед. На разбор их пустопорожних жалоб я тратил уйму времени, пока не завел должность адъютанта по национальным претензиям.
– А славянские идеи что же, больше не помогают?
– А какое дело немцам, итальянцам, венграм или грекам до ваших славянских идей?
– Ваших? Я полагал, полковник, что это наши общие идеи. Разве не так?
– Мы – народ маленький, куда уж нам до панславизма, – вздохнул Хорватович. – Ну да ладно, поживете – сами увидите. Фамилия пьяницы-полковника Устинов, а найдете вы его в кафане у маркитантов. Ступайте, мне, кажется, придется лечь. Ступайте, поручик, приказ о вашем назначении вам передадут утром.
Гавриил щелкнул каблуками и пошел к выходу.
– Если отдадите пушки туркам… – Хорватович помолчал, а потом тихо и очень буднично закончил: – Я расстреляю вас за все грехи разом.
Поручик молча поклонился и вышел из палатки.
Он никому не стал рассказывать о рапорте Медведовского: это было его дело, за которое он отныне нес полную меру ответственности. Поручик до сих пор ощущал холодок в спине от последних слов Хорватовича и понимал, что синеглазый командир корпуса сказал их не ради фразы. Здесь яростно боролись за дисциплину и боеспособность и не стеснялись подчас прибегать к самым крутым мерам: полковник лично расстрелял войника, бросившего в бою раненого товарища, об этом писали все газеты.
Тюрберт уже увел свои пушки на позицию, а болгары держались в стороне, ожидая указаний. После истории с черкесом, о которой они, к счастью, не знали подробностей, между ними и Гавриилом словно пробежала кошка: внешне все оставалось по-прежнему, но ощутимый ледок появился. А угрюмый Кирчо спросил напрямик:
– Отпустили или вправду сбежал?
– Сбежал, – сказал Отвиновский. – Не уследили, виноваты.
Кирчо выругался и ушел. И появился ледок в отношениях.
– Идем на пополнение стрелковой роты, – сказал Олексин. – Сообщите об этом болгарам, Отвиновский. Мы с Совримовичем поищем командира.
По дороге в кафану, которая стояла на отшибе, за строгими линиями штабных палаток и шалашей, говорил один Совримович. Рассказывал о встрече со знакомым офицером, о турках, редких боях и о слухах. Он был неравнодушен к слухам, любил извлекать из них доказательства собственных выводов, за время похода скучал без новостей и с удовольствием сыпал ими. О Черняеве, о докладе сербского военного министерства, о злоупотреблениях интендантства, о князе Милане, тайком примерявшем королевскую корону, о демонстративном отъезде группы русских волонтеров в Россию…
– Студенты, – несколько пренебрежительно комментировал он, – недовольны позицией сербских властей, обвиняя их в саботаже и чуть ли не в тайном сговоре с Портой…
Олексин не слушал. Он вновь с ужасом вспоминал рапорт Медведовского и внутренне благодарил судьбу, что счастливо избежал позорной высылки на родину. Нет, он и сейчас не жалел, что отпустил Ислам-бека, и, хотя упоминание Хорватовича о вырезанных селах тревожило его совесть, поручик твердо был убежден, что полковник сильно преувеличил жестокости, творимые черкесами в Сербии.
И все же главное место в его размышлениях занимал сейчас Хорватович. Поручик думал о нем почти с восторгом не только потому, что сербский полковник спас его честь и карьеру, но и высоко оценивая ловкость, с которой Хорватович использовал рапорт в общих боевых целях. Да, он взвалил на плечи поручика нелегкую ношу, но взвалил, понимая, что Олексин с благодарной радостью ухватится за нее. «А все-таки все к лучшему, – с неистребимой юношеской верой в счастливую звезду думал Гавриил, входя в шумную кафану. – Если бы не случай, ни за что бы мне не получить такого участка».
В тесной кафане было дымно и людно, но толстый хозяин в грязном фартуке мгновенно нашел для них место, поспешно выпроводив из-за столика двух сербских войников.
Совримовичу это не понравилось:
– Напрасно вы их потревожили.
– Никак не можно, никак не можно! – на плохом русском языке кричал хозяин, проникновенно прижимая к засаленной груди волосатые пальцы. – Все – для господ русских волонтеров. Вы проливаете кровь за нашу Сербию…
– Но мы не затем пришли…
– Никак не можно! Бутылочку вина, одну бутылочку! – Тут хозяин понизил голос до интимной доверительности: – Есть настоящее французское. Только для вас, господа, только для вас.
Он тут же исчез, с профессиональной ловкостью обходя посетителей. Офицеры сели, оглядывая набитое людьми помещение.
Русских здесь было много, и поэтому на них никто не обращал внимания. Ели и пили с той грубоватой бесцеремонностью, к которой с удовольствием прибегают мужчины, сойдясь по случаю, изо всех сил изображая бывалых рубак и хвастаясь бесшабашной удалью. Громко говорили, громко смеялись, вмешиваясь в разговоры соседей и не стесняясь в шутках. В основном это была молодежь, хотя попадались лица, довольно потрепанные возрастом и жизнью. Офицеры и солдаты придерживались своих компаний, но столы располагались рядом, плечи касались друг друга, а разговоры и шутки часто пересекались: волонтерское платье несколько уравнивало социальные группы, и Совримович сразу обратил на это внимание.
– Этак мы потеряем армию, Олексин: солдат не должен видеть пьяного офицера. А уж коль начнет пить с ним, в атаку его не поднимешь.
– Они хоть за разными столами, Совримович. Вы посмотрите направо.
Правее их за большим графином ракии сидели худой, сморщенный старик в русском полковничьем мундире и рослый краснорожий волонтер. Оба одинаково навалились на столик, едва не касаясь друг друга низко склоненными лбами, и одинаково молчали.
– Держу пари, это и есть полковник Устинов, у которого мне надлежит принимать роту.
– Я вам не пешка! – вдруг побагровев, крикнул полковник. – Да-с, не пешка! Я – русский офицер, я тридцать лет верой и правдой! Да-с! А меня – в пешки, в пешки! Почему не русские командуют, почему, я вас спрашиваю? Почему? Интриги, господа? Не позволю! Не позволю, чтоб русский мундир… – Он ткнул солдата в плечо. – Ты видишь этот мундир? Видишь?
– Так точно, – невнятно пробормотал солдат, привычно думая о своем. – Как же. Мундир – это точно.
– Этот мундир свят, – с пьяной проникновенностью сказал полковник. – Он вознесен волею его императорского величества и матушки-России. Вознесен! Во всех столицах славой покрыт. Во всех, милостивый государь, не извольте спорить. Все – дерьмо, только русские воюют. Только русские! А меня – в подчинение. К кому? К австрийскому сербу?
– Ах ты горе горькое! – крикнул солдат, хватив кулаком по столу.
За столиком воцарилась тишина. Полковник долго и тупо глядел на собутыльника пьяными красными глазками.
– Горе? Какое у тебя может быть горе, дубина?