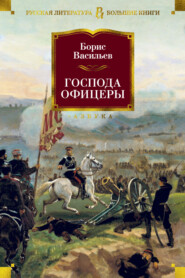скачать книгу бесплатно
– Начали, бек, так рассказывайте, – вздохнул Гавриил.
– Нам дали два часа на сборы. Что можно собрать за два часа, когда вы уходите навсегда из родного гнезда, когда неизвестно, что дороже: горсть земли с могилы отца или старая бурка? Люди хватали случайные вещи, и над всем аулом висели рыдания. Но ровно через два часа нас вытолкали на улицу и погнали к морю. Ночью, через заснеженные перевалы, с малыми детьми и дряхлыми стариками. Мы шли и падали, и снова шли, и снова падали. У форта Лазаревского нас ждали парусные фелюги. Нас швыряли сотнями в эти фелюги, не разбирая, кто здрав, кто болен, где мать, а где дети, и через несколько часов мучительного плавания выбросили на пустынный берег. Он был дик и безлюден, и мы еще сутки брели по чужой стране, пока не нашли чиновников, которые хоть что-то могли сделать. Мы долго жили в лагере для переселенцев, ожидая решения своей судьбы, десятками умирая от болезней. Потом пришел фирман: нам жаловалась дикая земля в Болгарии, которая не нужна была ни туркам, ни самим болгарам. Мы поселились там, вдали от навеки утерянной родины, среди врагов. Вы назвали нас бандитами? Нет, поручик, мы – мстители, а не бандиты. Жалею, что не зарубил вас сегодня.
– Да уж больше такой возможности у вас не будет, – усмехнулся Тюрберт. – Не хочу скрывать: вам предстоят неприятности, бек.
Черкес ничего не ответил.
– Вы когда-либо испытывали боль за деяния своей страны? – спросил Отвиновский. – Хоть раз в жизни, хоть по какому-нибудь поводу?
– Я люблю свое отечество и горжусь им, – немного напыщенно сказал Тюрберт. – Догадываюсь, что вам трудно это понять.
– Отчего же трудно? Вы эгоист, поручик, и любовь ваша к отечеству тоже эгоистична: она мирится с тем порядком вещей, который удобен вам лично. Вы не сострадаете своей отчизне, вы пользуетесь ею, как любовницей.
– Кажется, вы переходите границы, Отвиновский, – вздохнул Совримович. – В ваших словах заключено нечто, касающееся не только подпоручика Тюрберта. Соблаговолите объясниться.
– Объясниться? – Поляк поковырял угли костра, на миг вспыхнуло пламя. – Каждый народ считает себя избранным. Это пошло с тех времен, когда чувство особливости было инстинктом сохранения рода: ребенок тоже считает себя особым и, лишь взрослея, начинает понимать, что он ничем не лучше остальных. Не в этом ли понимании заложено то, что мы считаем чувством справедливости, господа? С этим чувством не рождаются: его постигают, учась сравнивать. Сравнивать! Сравнивать, то есть заранее считать всех равными…
– Хотите сказать, что мы народ пока еще младенческий?
– Дайте же человеку высказаться, Тюрберт, – с раздражением заметил Гавриил. – Он как раз горюет о том, что ему не дают говорить, а вы тут как тут со своими гвардейскими обидами.
Тюрберт насмешливо посмотрел на Олексина, но промолчал. Совримович, всегда близко к сердцу принимавший размолвки между друзьями, с беспокойством следил за Отвиновским, ставшим вдруг надменно, почти враждебно холодным. И лишь пленный бек отрешенно сидел у костра да Захар беззвучно убирал посуду.
– Вы благодетели по натуре, Олексин, – невесело усмехнулся поляк. – Благодетели искренние, бескорыстные, щедрые. Но вам лень подумать…
– Вот и лень появилась, – улыбнулся Тюрберт. – Признаться, ждал ее с нетерпением: как, думаю, вы без этого-то аргумента обойдетесь? А вы и не обошлись, и все сразу стало таким банальным, что, господа, захотелось поспать. Оставим банальности земским сердцеедам и предадимся самому безвинному из удовольствий: сну в обнимку с шинелью.
– Леность не аргумент, леность – результат, – сказал поляк. – Вся Европа, все ее страны и народы стоят или сидят, а вы лежите, пятками упираясь аж в Тихий океан. У вас – масштабы, у вас – размах, у вас – идеи под стать размерам. Я спросил вас о деяниях вашего отечества, об истории вашей. Да, великая история, есть чем гордиться, господа, есть, готов признать как воин, коему не чужды честь и отвага. Но сколько же в этой истории темного, сколько крови и слез, сколько обид! Когда-нибудь – не теперь, нет! – но когда-нибудь вы сочтете их. Хотя бы во имя справедливости, без которой не может жить ни человек, ни народ, ни государство.
– До чего же вы ненавидите нас, господин инсургент, – сказал Тюрберт, улыбаясь с привычной безмятежностью. – Но я не в претензии, поймите. Вы отвыкли служить отечеству, заменив отечество идеей. А идея – неадекватная замена, Отвиновский. Идеи приходят, идеи трансформируются, уходят или умирают, а отечество остается. И наша сила – в нем.
– Ваша сила вскоре явится сюда, и поэтому мне самое время присоединиться к тем, кто вроде меня еще не обрел своего отечества: я имею в виду болгар. Передать им что-нибудь, Олексин?
– Благодарю, ничего.
– Счастливо, господа, я заночую у Меченого. – Отвиновский двинулся было из освещенного круга, но остановился. Добавил, понизив голос: – Не хочу быть пророком, но почти убежден, что бравый рубака Медведовский повесит нашего гостя на его же собственном ремешке.
Отвиновский ушел; офицеры молчали, но молчали по-разному. Гавриил сосредоточенно размышлял о чем-то непривычном, что, может быть, и не было для него новым, но от чего прежде он легко отмахивался, а сейчас почему-то не мог отмахнуться, удивлялся, что не мог, и чуточку этим гордился. Тюрберту все всегда было ясно не потому, что он не умел или избегал думать, а потому что все им услышанное лежало за пределами его совести и чести, а значит и не относилось к нему. Все это и подобное этому решалось за него, бралось на чью-то иную совесть, было делом государственным, и он не желал да и не считал себя вправе сомневаться. А Совримович страдальчески морщился, терзал цыганскую бороду и вздыхал.
– У меня скверно на душе, господа, – признался он. – Думаю, потому скверно, что Отвиновский в чем-то прав.
– Оставьте! – с непривычным раздражением крикнул Тюрберт. – Мы смотрим на мир с разных колоколен, и не перескакивайте на чужую, Совримович: наша и повыше, и погромче. Эти господа думают только о себе, воюют только за себя и умирают за свою милую племенную ниву. А мы первыми в мире шагнули за племенные границы, мы первыми научились видеть дальше собственного порога и думать шире родимой околицы. И то, что мы с вами здесь, в Сербии, то, что мы во имя братьев по вере покинули свои дома и готовы отдать свои жизни, лучшее доказательство вечной правоты России.
– Братья-славяне, – опять вздохнул Совримович. – А нужно это им, братьям-славянам, Тюрберт? Нужно?
– Что – это? Помощь?
– Помощь нужна, я не о помощи. Я приехал сюда по зову души своей и… и горжусь этим. Я готов помогать, готов сражаться, готов, если понадобится, умереть за свободу и счастье моих братьев, но… Ах, боже мой, я не знаю, как высказать то, что тревожит меня, господа. Нет чего-то общего, чего-то большего, чем все наши жизни. Нет! Почему же нет? Может быть, потому, что у нас нет знамени?
– С такими мыслями, Совримович, вам трудно служить в русской армии.
– Я кое-что понял, господа, не все, правда, не до конца, но кое-что понял, – не слушая Тюрберта, продолжал Совримович. – Знаете, и Карагеоргиев в чем-то прав, и Отвиновский, а ведь они тоже славяне. Значит, что-то не так, господа. Значит, что-то мы напутали в московских салонах, что-то недодумали или незаметно для самих себя додумали за другие народы. А это неправильно. И – несправедливо.
– Послушайте, Совримович! – Тюрберт опять скривился, и опять в его тоне зазвучала некоторая сварливость. – Не раздувайте вы свою драгоценную совесть до вселенских размеров. В конечном итоге существует долг, существует честь, существует отечество – что еще нужно, чтобы всегда остаться правым?
– Существует, вероятно, нечто большее, чем личная честь и личный долг, Тюрберт. Вероятно, существует, только мы этого пока понять не можем.
– Ну и слава богу! Излишние представления обременительны для нашей с вами профессии.
– А ведь Медведовский и в самом деле повесит пленного, – вдруг тихо сказал Гавриил. – Повесит, а мы всю жизнь…
Он замолчал, так и не договорив. Совримович сокрушенно вздохнул, а Тюрберт неожиданно зло расхохотался.
– Я к солдатикам, – сказал он, вскакивая. – К солдатушкам – бравым ребятушкам.
– Постойте, – морщась, сказал Олексин. – Пленный – ваш, извольте решать его судьбу.
– Нет уж, увольте! – Тюрберт развел руками и картинно поклонился. – Во-первых, ссадил его ваш денщик, стало быть, вам приз и принадлежит. А во-вторых, господа соотечественники, ваших людей он не убивал, вашей жизни не угрожал – вам, знаете ли, как-то проще проявлять нежные чувства. А посему разрешите удалиться для исполнения командирских обязанностей. Вернусь через час, надеюсь, что к этому времени вы кончите страдать и обстановка прояснится.
Тюрберт еще раз церемонно поклонился и ушел. Офицеры молчали, старательно не глядя друг на друга. Ислам-бек, слышавший весь разговор – Тюрберт либо не умел, либо не желал говорить тихо, – сидел в прежней неподвижности, словно все это его не касалось.
– Все-таки этот ваш московский приятель – отменный наглец, – сердито сказал Совримович. – Он, видите ли, явится через час!
– Что вы скажете, Совримович, если я отпущу бека на все четыре стороны? – спросил Олексин, упорно разглядывая папиросу. – Что вы молчите? Я исхожу из боевой обстановки: пока мы его не отпустим, черкесы не уйдут, а, напротив, ночью повторят атаку. Об этом никто не думает, а это и есть главное.
– Я не судья вам, Олексин, – сказал, помолчав, Совримович.
Глава седьмая
1
Тетушка Софья Гавриловна выполнила данную себе самой торжественную клятву. Никому ничего не объясняя, вдруг укатила восвояси, но вскоре вернулась в Смоленск в сопровождении сундуков, любимой болонки и шепотливой старушки-наперсницы Ксении Николаевны. К этому времени Варя привезла детей из Высокого, и привыкший к тишине и безлюдью смоленский дом зажил жизнью шумной, суетливой и энергичной, поскольку энергию эту излучала почтенная Софья Гавриловна каждое божье утро:
– Сегодня французский день. Разговоры по-русски запрещены. Даже с прислугой.
– Боюсь, что прислуга не поймет, – пыталась возражать Варя.
– Захочет – поймет: русский человек все понимает, когда захочет. А вы, судари и сударыни, обленились и закоснели и извольте напрячь волю. Маша может музицировать, но не более двух часов, остальное – занятия и занятия. Пора думать о пансионе.
– О пансионе?
Спорить с тетушкой Маша не решалась не из боязни или малодушия – она была человеком прямым, – а из чувства благодарности. Своей неуемной деятельностью, затратой сил, искренностью и заботой Софья Гавриловна обезоруживала спорщиков еще до спора. И Маша плакала по ночам, а днем жаловалась все понимающему Ивану:
– Да что же это творится, Ваня, я даже спорить не могу! Я боюсь неблагодарной оказаться: она ведь от души все, правда? Ну скажи, ведь от души, без хитрости?
– От души, Маша.
– Вот видишь. Как же тут спорить?
Иван молча улыбался. Он стал еще сдержаннее и нелюдимее, увлекся философией, а химию вдруг оставил, но то, чем он увлекался, видели, а что забрасывал, не замечали. Это было по-олексински: гордиться увлечениями и не замечать непостоянства. Они всегда чем-нибудь увлекались, но никогда не доводили до конца своих увлечений, и это было столь естественно для них, что упрись кто-либо в какое-нибудь одно дело и не измени ему – посчитали бы чудаком.
– Рабство благодарности, Маша, есть самое тяжкое рабство, ибо цепи для него человек выковывает сам.
– Оставь свою противную философию.
– А что изменится? Ты сразу сделаешься неблагодарной?
– Господи, она меня и вправду в пансион запрет! – Маша в отчаянии всплескивала руками. – А я не хочу туда. Не хочу, не хочу!
– Молодец! – Иван, улыбаясь, любовался сестрой. – Вот так прямо и скажи.
Но Маша могла говорить, спорить и возмущаться только с Иваном: боязнь огорчить тетушку была сильнее ее. Иван был прав, говоря о рабстве благодарности: в это мягкое улыбчивое рабство постепенно втягивалась вся семья, и даже Варя, все еще пытавшаяся спорить, спорила только до известного предела, перейти который уже не могла. Деятельно-ласковые ручки Софьи Гавриловны неторопливо, но крепко захватывали и дом, и домочадцев.
– Завтра немецкий день. Дети, вы слышите? Георгий, я тебя спрашиваю.
– Да, ма тант.
– Немецкий, немецкий, а не французский!
– Все равно голодными будем, – улыбался Иван. – Прислуга опять напутает, и мы получим желе вместо отбивной и паштет вместо варенья. Впрочем, голодный полиглот лучше сытого недоучки.
Ивану было проще всех: он с самого начала отгородился непроницаемо вежливой улыбкой, все принимал как должное и ничем не восторгался. Софья Гавриловна, с первых же дней озадаченная этой позицией, так и осталась озадаченной, в конце концов оставив его в покое.
– Знаешь, Варвара, я пугаюсь людей, которые не способны увлекаться.
– Иван увлечен философией, тетя.
– Вот когда его философия зашелестит юбками, тогда я перестану пугаться. А потом непременно закричу «караул».
– Опять – караул?
– Помяни мои слова: он влюбится не в того, в кого надо.
– Полагаю, ему виднее, в кого влюбиться.
– Но он непременно напутает. И будет распутывать всю жизнь и запутает еще больше. Пожалуйста, не спорь, я знаю, что говорю.
Однако больше всех языков, свободное владение которыми Софья Гавриловна почитала основой воспитанности, больше всех хозяйских хлопот, детского ученья, занятий и развлечений тетушку занимал вопрос, из-за которого она то и дело намеревалась кричать «караул». Вопросом этим было будущее девочек, понимаемое как выгодное замужество. Она бы с удовольствием занялась и мужскими партиями, но все годные для этой роли мужчины разбежались, Иван в расчет не шел, и вся ее энергия отныне была направлена на поиски женихов. В этом вопросе она полагалась целиком на себя, ни с кем не советовалась, но и не спешила, проводя пока глубокую подспудную работу и нанося визиты предпочтительно одиноким дамам со связями и в возрасте. Верная Ксения Николаевна добывала необходимые сведения, вооружившись которыми Софья Гавриловна и шла в разведку боем.
– Выдадим Варю и Машеньку и передохнем, – говорила она наперснице, возвращаясь со свиданий, требовавших утонченной хитрости, высшей дипломатии и точного расчета, что сильно утомляло ее. – С Наденькой будет легче. Я чувствую, что легче.
Вдовствующей владычицей смоленского общества была Александра Андреевна Левашева, дама почтенного возраста, петербургских связей и независимого капитала, наезжавшая по хозяйственным надобностям в город. Когда-то Софья Гавриловна была ей представлена и рискнула явиться с поклоном, как только Александра Андреевна объявилась в Смоленске. Скучающая матрона приняла ее немедленно и вполне благосклонно; дамы пили чай и говорили о пустяках, но Софья Гавриловна умудрилась перевести разговор в нужном направлении, доверительно поведав хозяйке о своих заботах в связи с осиротевшей олексинской семьей.
– Буду рада познакомиться с вашими питомицами, Софья Гавриловна, – сказала Левашева. – Привозите в четверг, я люблю молодежь.
К четвергу готовились особо: шили платья, обсуждали разговоры. Маша скептически улыбалась, но не спорила: ей была любопытна эта суета. А Варя относилась к предстоящему визиту не только со всей серьезностью, но и с определенными планами, будто там, у таинственной светской вдовы, ей должны были незамедлительно вручить того, кого она готова была полюбить вдруг и на всю жизнь. Теперь, когда Софья Гавриловна взяла на себя все семейные заботы, Варя начала ощущать такую потребность любить, что все остальное отошло на второй план, стало мелким, необязательным и неинтересным. У нее было чувство, будто та непосильная ноша, которую она, задыхаясь, тащила на своих плечах, уже доставлена, уже сброшена, и она наконец-таки получила возможность выпрямиться, оглядеться и ощутить собственную бесприютность и одинокость. И ощущение это было пугающим, потому что Варя уже считала свои годы.
– Ты суетишься неприлично, – сказала Маша в своей полудетской беспощадной манере.
Варя вспыхнула, но смолчала, хотя ей очень хотелось сказать, как легко быть спокойной, когда тебе всего семнадцать и все еще впереди. А у нее если и не позади, то вровень, в самый раз, когда промедление сродни забвению того, что жило в ней, должно было жить, не имело права не жить, не пользоваться жизнью, не отдаваться ей со всей накопленной силой. Варя смолчала, но мысли, вызванные бестактностью девчонки, у которой как раз-то все было впереди, остались, и прибыла она к Александре Андреевне несколько растерянной.
– Я хотела бы представить вам брата, – сказала хозяйка, когда переговорили о погоде, модах и новостях и девушки освоились. – Он спасается от сплина то в Европе, то в России, попеременно и с равным успехом, однако не растерял еще желания знакомиться с очаровательными девицами. Рекомендую, князь Насекин.
Рано полысевший князь скользнул равнодушными глазами, на миг задержал взгляд на Маше и неожиданно улыбнулся одними губами:
– Боюсь, что я – скучная принадлежность дамских гостиных.
– За чаем мне случалось видеть тебя даже остроумным, – сказала Александра Андреевна, вставая. – Прошу вас.
Они прошли в столовую, где был подан чай по-английски – с молоком и без самовара. Князь сел напротив Маши, изредка изучающе поглядывал на нее, но молчал, не участвуя в общем разговоре и отделываясь односложными замечаниями, когда его пытались втянуть в этот разговор. Потом сказал неожиданно и совершенно невпопад:
– Поразительно, но ведь только Россия тратит. Тратит деньги, тратит знания, время, душевные силы. Остальные народы ничего не тратят: они вкладывают. В будущее, в карьеру, в дело. Вкладывают, всегда думая о том, чтобы получить прибыль. Даже когда дело касается удовольствий, думают о процентах с вложенного капитала.
Гостьи растерянно примолкли, а хозяйка улыбнулась:
– Князь Сергей Андреевич – наша семейная загадка. Мы часами ломаем головы над его шарадами, но таков уж стиль, приходится с этим мириться.
– Может быть, князь пояснит, что он имел в виду? – улыбнулась Варя. – Признаться, я озадачена: говорили о провинциальной тишине – и вдруг ваша эскапада.
– Князь считает эти разговоры ненужной тратой сил, только и всего, – покраснев, сказала Маша. – Вероятно, это справедливо.
Князь молча улыбался одними губами. Глаза по-прежнему смотрели с усталым равнодушием.
– Придется разъяснить, Серж, иначе ты рискуешь быть превратно понятым, – вздохнула Александра Андреевна.
– Представьте, что потребность всюду искать абсолютную гармонию есть наше национальное свойство и наша национальная беда, – скучно, словно через силу, начал он. – Европа – я беру ее в целом, ибо разница между ее народами практически несущественна, – так вот, Европа стремится к гармонии личной, суть которой сводится к формуле «мне должно быть хорошо». А мы этого стыдимся, даже если втайне и исповедуем. Стыдимся мучительно и искренне, готовы каяться, замаливать грех благотворительностью или… или чудачеством. Не потому ли у нас в России столь много совершенно особых русских чудаков? Куда-то рвемся, спешим, грешим и святотатствуем – и все не для себя, а если и для себя, то для утешения духа, а не тела, все скорее для покоя внутреннего, нежели внешнего. Не отсюда ли наше пресловутое русское чувство вины перед всем миром?
– А вы еще не влюблялись, – объявила вдруг Маша, опять закрасневшись. – И поэтому вам легко.
Князь внезапно рассмеялся. Смех его был неровным и каким-то насильственным.
– Кажется, тебе тоже придется пояснить свою мысль, – не без желчи сказала Варя.
– Не буду. – Маша покраснела еще больше и по-детски обиженно надулась.
– И не надо. – В глазах Сергея Андреевича впервые появилось что-то живое: они сейчас улыбались вместе с ним. – Вы открыли истину, Мария Ивановна. И, как всякая истина, она достаточно горька, чтобы принести пользу.
Софья Гавриловна была очень недовольна направлением, которое приняла застольная беседа. Она шла в этот дом, где избегали смотреть в глаза, где не говорили, а изрекали, не ели, а пробовали, не пили, а отведывали вопреки собственным симпатиям. Шла, рассчитывая на протекцию в сватовстве, а вместо протекции и серьезного разговора ей подсунули потрепанного и явно женатого человека, навязавшего обществу никчемный спор. Она все время ждала мгновения, в которое можно было бы вцепиться, чтобы поворотить все в нужную сторону, и поэтому с радостью ухватилась за последнюю сентенцию князя.
– Да, да, вы совершенно правы, князь, совершенно. Горечь одиночества, отсутствие избранника сердца…
Разговор нехотя, со скрежетом и натугой, переползал на иные рельсы. Варвара хмурилась. Маша сердито краснела, а князь вновь зазмеился улыбкой, приглушив лишь однажды вспыхнувшие глаза. Все стало привычно скучным, дамы вежливо поддерживали беседу, вылавливая в потоке суетных фраз имена и тут же придирчиво, но осторожно обсуждая их. Девушкам становилось все неуютнее и беспокойнее, но тетушка уже увлеклась, уже позабыла о них, да и хозяйка оживилась. Князь молчал, привычно выдавливая улыбку и поглядывая на Машу. Маша хмуро отворачивалась, а потом глянула вдруг с отчаянной мольбой.
– Я привез любопытные журналы, – сразу же, точно только и ждал этого взгляда, сказал князь. – Если не возражаешь, сестра, я показал бы их пока в гостиной.
– Да, да, Серж, развлеки барышень, а мы поболтаем с любезной Софьей Гавриловной.
Прошли в гостиную, князь принес парижские журналы. Отдал пачку Варе, но один оставил у себя и просматривал его вместе с Машей, комментируя рисунки и фотографии, остроумно пересказывая последние сплетни и анекдоты. Маша окончательно перестала дичиться, смеялась, когда хотелось смеяться, переспрашивала, когда не понимала; князь оживился, говорил легко и весело, опять заулыбался оттаявшими глазами. Варя поначалу поддерживала общий разговор, поскольку Сергей Андреевич к ней обращался, но потом его обращения стали все более редкими, а вскоре и совсем прекратились. Варя изо всех сил демонстрировала живую увлеченность журналами и даже смеялась в одиночестве, а когда возвращались, сказала, уже не пытаясь скрыть обиды и раздражения: