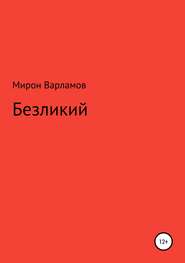 Полная версия
Полная версияБезликий
Жил Иван спокойно и беззаботно двадцать один год. К учебе у него никогда не было большого рвения. Иван был лишен таланта понимания естественных и гуманитарных наук, в чем он искренне признавался своим учителям, которые в ответ снисходительно качали головами и говорили, что их задача научить его необходимому минимуму знаний, так как этого требует закон и их нравственный долг. Иван не перечил своим наставникам и усердно пытался понять далекие от его разумения науки. По причине своей ученической неполноценности Иван часто выносил насмешки и слышал правду о своей скудоумности и «тупости» от одноклассников. Иван никогда не обижался и не гневался на своих приятелей и друзей и тем более, никогда не вступал с ними в продолжительные ссоры, потому у него и не было серьезных злопыхателей и врагов. И его никто не почитал за врага, поскольку такого человека как Иван невозможно было приравнять к врагу, а, если и возможно, то только путем унижения своего достоинства и гордости (что было, конечно непозволительно). Большинство своих ровесников Иван раздражал: немногие были способны примириться с его добродушием, с которым он выносил злостные и обидные шутки.
В селение А., в отличие от всех других поселений, существовало одно непререкаемое правило, которое множество лет назад от привычки переросло в традицию и от традиции перешло в устоявшийся закон; заключалось оно в том, что «… каждый от малого человека до большого человека, не зависимо от состояния здоровья, жизненного положения и его полезности обществу, обязан беспрекословно говорить исключительно правду и ничего помимо правды, потому что правда составляет основу жизни селения А.. Нарушив правду, (то есть, допустив ложь), человек нарушит основополагающий принцип жизни других славных людей». Этот закон исполнялся абсолютно всеми жителями селения А. в отличие от других различных законов, которые имели распространенное свойство нарушаться и не исполняться. Нарушитель приступал закон с ясным осознанием того, что рано или поздно будет пойман по той причине, что он может нарушить любой закон, кроме закона правды. Всякий, кто пренебрегал установленными правилами, обрекал себя на осуждение, так как в определенный момент он будет вынужден сказать правду о своем проступке.
Жители селения А. были такими же людьми, как и везде, за исключением того, что они со спокойной душой говорили друг другу правду. В их сознании не существовало целостного понятия, как ложь, – солгать, чтобы не обидеть или преувеличить, или преуменьшить свое оценочное суждение, чтобы угодить человеку; они понимали, что обязаны сказать то, что они думают и выдать это за единственную правду и правду, которая не может быть поставлена под сомнение. Если говорить правду, вошло у жителей селения А. в обыкновенную привычку и постоянных обиход, то принимать ее они так и не научились. Немногие могли воспринимать правду спокойно и легко, и немногие были лишены ревностного и обидчивого чувства после того, как слышали правду (в которой, к слову, они сомневаться никак не могли). Обычно люди в селении А., услышав правду, с которой они не могли (по определению закона) не согласиться, но которая их не устраивала, начинали говорить свою правду в ответ с той целью, чтобы восстановить равновесие. Зачастую случались продолжительные ссоры и разборки, в которых устанавливалась приблизительная истинность посредством правды; впрочем, истинности достичь никогда не получалось, но озлобленные правдой люди все-таки старались (но без особого рвения) измениться к лучшему.
Однако, были люди, принимавшие правду легко и беззаботно, и таких было единицы. Среди немногих прочих, к таким людям относился Иван. Многие не могли понять, как ему удается воспринимать правду, которая зачастую обличала личные недостатки и пороки, – воспринять ее без злости и страстного желания сказать свою правду в ответ – правду еще более обличающую и принижающую. Иван слушал чужую правду и в редкие дни тихо, чтобы его никто не услышал, отвечал: «Видимо, так и есть, раз уж ты так думаешь. Не всем нам суждено соответствовать идеалам и представлениям других людей». И на этих словах все заканчивалось: терялся предмет дальнейшего разговора, и наступало напряженное молчание. То ли природа такая была у Ивана, то ли воспитание (скорее первое, чем второе), то ли в нем было нечто необъяснимое, данное свыше, что позволяло ему реагировать на правду таким образом, чтобы истцы чувствовали неловкость и смятение в душах после сказанных слов. Это необъяснимое делало из Ивана человека вроде бы и жалкого, вроде бы и мягкотелого и бесхарактерного, но всегда превозносило его над обличающими его людьми, хотя он сам к этому никогда не стремился. Как раз последнее и делало Ивана «лучше» многих остальных, желавших быть выше, сильнее, умнее, правдивее других, но со своей одержимой страстью они оставались в болоте, в которое опускала их правда. Иван же словно воспарял надо всеми и был лишен каких-либо моральных ограничений. Но при всех своих достоинствах он был изгоем и одиночкой; разновидность его истории, внешне, довольно проста; это история, которую можно встретить в каждом небольшом социальном обществе, где кто-то один оказывается не таким как все и не без иронии прозывается «белой вороной». Но внутренние содержание его истории нельзя отнести к категории обыденной, хотя бы только потому, что он родился и вырос в обществе, где всегда говорят правду и ничего помимо правды. Как раз последнее наделяет каждое внешнее проявление чувства, мысли или желания особой сущностью, которая тщательно скрывается от обычной (вне селения А.) точки воззрения.
За те двадцать один год, которые прожил Иван в селении А., он почти никогда не задавался вопросами, относящиеся к области философских изысков. Существовал главный и основополагающий вопрос, над которым рассуждали все, кому не лень и кто имел способность рассуждать, и вопрос этот был о правде. Иван никогда не думал о правде так, что можно было сказать, что он до чего-то додумался и пришел к открытию или глубокому понимаю вещей. Для него правда была просто правдой, о которой рассуждать было не нужно, поскольку сказано, что главное – это говорить правду и ничего помимо правды и не сомневаться в том, что правда – это правда. Он не множил сущность и первооснову, тогда, как многие деятели, почитавшие себя за мыслителей, слыли настоящими извращенцами терминов и понятий в рамках устоявшейся доктрины правды. Иван был далек от таких людей и не потому, что он считал их философию неверной или дурной, а только потому, что видел в правде очень простую и банальную суть, о которой больше чем «…это просто правда…» сказать ничего нельзя. Так он и жил двадцать один год и жил, как настоящий мудрец (или как истинный дурак?) и человек, который при всей своей доброте и смиренности, находился надо всеми людьми, окружавшие его и старавшиеся вывести его из блаженного состояния, которое можно было бы назвать состоянием созерцательной безучастности. Иван жил так, будто понял то, чего никто понять был не в силах, и будто его понимание было твердо и несокрушимо. Но Создатель, о котором Иван никогда не слышал и не знал, наделив его хорошими качествами характера, и спросил с него намного больше, чем с тех, кому он преподнес дурные и алчные темпераменты. И спроси Он его в обычный, погожий, немного ветреный и весенний день, и спросил Он у него так, что изменил Ивана совершенно. С этого и начинается его история.
Каждый в селении А. знал, что самым ужасным преступлением является сомнение в том, что правда – это и есть правда. Сомнение, сопровождаемые противоречиями и инакомыслием, было не прощаемым деяниям, за которое житель должен был нести наказание в виде изгнания из селения. Изгоняли всякого преступника правды, потому что сомнение одного подрывало традиционные устои селения А., основа которых зиждилась на единстве правды. Того, кто начинает придаваться сомнениям, узнавали в считанные часы, если не в считанные минуты. Этот человек, хоть и сомневался, но не мог утаить и скрыть свое преступление, потому что правда для него в любом случае оставалась высшим законом – высшим законом, как многолетняя привычка, а сила привычки – вещь упрямая. О своих сомнениях этот человек сообщал, как только предоставлялась такая возможность, поэтому преступления, связанные с сомнениями в правде, раскрывались довольно быстро и без особых трудностей. Таким образом, Иван проснулся одним утром с той мыслью, что не всякая правда может быть правдой. Ужасная мысль сомнения была продиктована отчетливо и ясно, что сомневаться в появившемся сомнении было невозможно. Иван проснулся и понял, что услышал правду о том, правда в селении А. может оказаться неправдой. Он испугался; мысль сомнения была прозрением, которая в считанные секунды делало его ближайшее будущее непредсказуемым и пугающим, хотя и вполне закономерным. Каждый в селении А. знал процедуру изгнания сомневающегося (уроки правды не проходили напрасно) и каждый знал, что нужно делать, чтобы изгнание прошло в кротчайшие сроки и без отягчающих последствий. Страх был тем обстоятельством, которое ухудшало положение сомневающегося: страх заставлял скрываться, прятаться, избегать всякого общения; преступник становился латентным, подозрительным, мучимым страстью рассказать всем о своем прозрении, но стойко молчал до тех пор, пока кто-то не обнаруживал в его поведении признаки сомневающегося.
Иван принял душ, почистил зубы, расчесал волосы и признался себе, что он сомневающийся. Признание прошло безболезненно: только сердце несколько раз подпрыгнуло в груди и появилось притупленное чувство тревоги. «Какая ирония судьбы. – Думал Иван. – Обычно сомневающимися становятся те, кто больше всех отдавал себя спорам и длинным рассуждениям о правде. – Иван помнил уроки, посвященные истории правды и тот раздел, в котором уделялось внимание инакомыслящим, сомневающимся. – Для меня никогда не стояло такого вопроса, но, проснувшись, я не могу думать о правде так, как я думал раньше. Все изменилось в одночасье. Никогда не предугадаешь, что тебя ждет. – Сказал он своему отражению в зеркале и постарался выдавить из себя улыбку».
Селение А. отличалось от других селений и городов еще и тем, что у его жителей отсутствовало понимание вины. Они, конечно, знали это слово и догадывались о том, что оно обозначает, но никто никогда не мог сказать, что он почувствовал вину. Местные мудрецы и ученые люди делали заключения, что в их понимании отсутствует определение вины, потому что они всегда говорили исключительную правду и не знали ничего помимо правды, то есть они не знали прародителя вины – умышленную ложь или подавленную сознанием правду. В селении А. часто говорили: «Не познавай лжи, не познаешь и вины»; среди прочего, местные жители, оставаясь с собой наедине, обретали покой и смирение и в тех случаях, когда в их жизни случалось нечто плохое, преступное и из ряда вон выходящее. Отсутствие вины заменял им здравый рассудок и вера в правду. Они говорили себе примерно следующее: «Для чего мне беспокоиться и тревожиться о том, что уже свершилось, если правда в любом случае будет выявлена? Зачем мне чувствовать то, что не принесет мне никакой пользы: ведь в чувстве вины нет никакой правды». Именно такими словами подбадривал себя Иван, когда вышел из своей скромной квартиры на улицу. Наступил выходной день, и можно было бы на законных основаниях остаться дома и подумать о многом: например, о том, во что превратилась для Ивана новая правда, как ему жить с ней дальше и что ему теперь делать. Остаться дома было бы целесообразнее и практичнее, чем выходить к людям: среди людей невозможно удержать правду, а среди четырех стен, капающего крана и тиканья часов отсутствует внешний раздражитель. Иван осознавал, что выходя на улицу тем днем ранней весны, он обрекал себя на изгнание; его выход приравнивался к тому, что он сам себе вынес приговор до того, как о наказании сообщит ему судья. Он думал о том, что можно было бы оставаться дома как можно дольше и постараться за это время побороть появившееся сомнение в том, что единственная правда, которая было ему знакома, может являться неправдой, то есть ложью. Но что-то внутри подсказывало Ивану, что ничто не сможет переубедить его, поскольку его сомнение было прозрением, яркой и огненной вспышкой на темном небосводе, которая осветила собой все то, что оставалось невидимым до этого мгновения. Иван быстрыми шагами семенил по тротуару и с волнением пытался пробудить то сильнейшее чувство, обуявшее его сегодняшним утром; но все было тщетно. Тревожное состояние и смятение души не позволяло ему воскресить то озарение и то чувство совершенной понятности жизни и понятности величия правды, которыми Иван был переисполнен еще несколько часов назад. То чувство было ни с чем несравнимо; и то чувство породило глубочайшее желание познания. Отныне познание новой правды, познание всего того необъяснимого, что Иван косвенно узрел в те мгновения, когда осветилась тьма, стало для него смыслом жизни, которого раньше у него не было, и о котором ранее он не задумывался. В селение А. рассуждать о смысле жизни считалось дурным тоном; тот, кто ищет смысл жизни – человек праздный и витающий в облаках, человек, у которого нет реального понимания жизни и трезвого на нее взгляда. Рассуждение о смысле бытия было сравнимо с детскими рассуждениями о том, сколько песчинок может уместиться на берегу моря или о том, сколько весит пятая часть жирафа, если десять чаек улетели под землей на Эверест, а в это время слон сорвал хоботом банан. Именно такими издевательскими аналогиями оперировали моралисты и учителя нравственности селения А., когда видели (преимущественно в подростках) желание познать смысл всего сущего и смысл своего существования. Короче говоря, вопрос о смысле жизни в селении был вопросом давно решенным. Немногим хватало смелости задать себе этот вопрос впервые или вновь, поскольку рассуждение о смысле жизни неизменно приводило к новому взгляду на понятие правды; верно и обратное утверждение: новая правда приводила к обретению смысла жизни, и смысла в глубокой тяге к познанию.
Полчаса Иван бесцельно слонялся по селению. Его поведение начало привлекать местных жителей; некоторые любопытствующие взоры начали хмуриться и догадываться в чем обстоит дело. Максимум через час Иван был бы доставлен в полицейский орган для формального допроса и, конечно, ему сразу же был бы представлен вывод суда (минуя все положенные стадии судопроизводства), который провозгласил бы его сомневающимся. (До сих пор ведутся многочисленные дебаты по поводу формулировок решения суда в селении А.: по общим правилам принято выносить обвинение – обвинительное заключение или обвинительный акт, но в селение А. не существовало такого чувства как чувства вины, поэтому судебное решение в этом месте называлось выводом). Далее в течение двух-трех дней состоялся бы суд, и Ивана бы судили по всей строгости закона и праведности. Но взоры небезосновательно мнительных людей не успели донести свои тела до полиции или суда, чтобы сообщить о странном поведении Ивана, содержащие признаки преступления против правды. Их опередил сам сомневающийся; Иван был в беспокойстве; он метался по всему селению в поисках чего-то важного, куда его направлял внутренний инстинкт. Пьяного ноги несут домой, также и Ивана – сомневающегося, ноги принесли в суд.
Судью он застал у себя в кабинете за вторым завтраком: чашка кофе, на плоском блюдце аккуратно лежало несколько бутербродов с сыром и ветчиной, взгляд судьи мечтательно, но строго высматривал что-то в окне. Кабинет Эраста Арнольдовича был открыт круглые сутки и к нему мог зайти любой, кто пожелает, но исключительно с целью практической: донос, явка с повинной, сообщение о возможном преступлении. Местный судья работал на износ: это и неудивительно ведь в селении А. штат органа полиции состоял из участкового, одного оперативного работника и следователя. В обществе, где все говорят правду, раскрываемость преступлений приравнивается к ста процентам, и работа правоохранительных органов сводится к минимуму. Основные полномочия по совершенным преступлениям берет на себя судья, и в его главную задачу входит вынесение своего вывода; институт доказывания в селении А. был упразднен множество лет назад, когда впервые был принят высший закон о единой правде, поэтому не было никаких оснований доказывать и объяснять тонкости и точности совершенного преступления. Эраст Арнольдович был наделен силой высшей правды, и его компетентность в вопросах соблюдения справедливости правосудия никем не могла быть оспорена (никто не сомневался, что судья, вынося вывод, говорит исключительную правду и, следовательно, сам предмет возможного оспаривания отпадал как атавизм).
Эраст Арнольдович отпил глоток кофе и внимательно обвел взглядом Ивана, который в нерешительности застыл в проходе. Из репродуктора тихо струилась классическая музыка.
– Здравствуй. – Сказал судья. – С чем пожаловал? Твой вид говорит о крайней озабоченности и беспокойстве.
– Я хочу донести о совершенном преступлении.
– Очень славно. На кого? Что за злодеяние свершилось в нашем селении?
– Проснувшись сегодня с утра, я посмел предаться сомнению. Я сомневающийся, и я хочу донести на самого себя.
Эраст Арнольдович поперхнулся кофе и подпрыгнул на месте: блюдце с бутербродами упало на пол. Раздалось звучание разбитого фарфора. Его взгляд в одну секунду выразил возмущение и негодование; но судья поспешил взять себя в руки.
– Кто-нибудь еще знает об этом? – Строго спросил он.
– Не думаю, но прежде чем придти к вам я около часа слонялся по селению. Могли и заподозрить.
– От чего же ты сразу не пришел! – Вскрикнул Эраст Арнольдович; на его лице читалась озабоченность, но, не дав ответить Ивану, он вскочил и подбежал к окну. – Так, так, вроде бы никто не подсматривает и не подслушивает, значит – пока что еще не догадались. Ох! Только бы не догадались.
Эраст Арнольдович был одним из самых главных и почитаемых моралистов в селении А.. Он всей душой волновался за нравственное воспитание и целомудренность местных жителей, и известие о том, что появился тот, кто сомневается, расстроило его в высшей степени. Много лет прошло с тех пор, как судья видел перед собой человека сомневающегося; в его памяти воскресли события того сложного и долгого процесса, который оставил неизгладимый отпечаток на всех жителях селения А.. Тот человек был не только сомневающимся, но он был и проповедником своего сомнения, он был бунтарем и был агитатором – человеком, как он говорил: «…который прозрел, чтобы увидеть правду о правде…». Тот сомневающийся желал одного: он желал свое озарение донести до каждого человека. Эрасту Арнольдовичу понадобилось немало усилий и средств, чтобы ускорить судебный процесс и в наикротчайшие сроки вынести вывод, в соответствии с которым, сомневающийся был изгнан из селения А.. Изгнание считалось высшей мерой наказания, поскольку ходили разные ужасные истории, которые рьяно поддерживали местные моралисты и учителя нравственности, о том, что за территорией селения царит абсолютная ложь. Подобные страшилки начинают рассказывать с раннего детства, и каждый житель больше всего боялся изгнания – изгнания в то место, где обитает ложь. Неизведанное и непонятное было намного страшнее ментальных пыток и умственных заключений, к которым прибегали в селении А. как к мере наказаний; неизведанное, которое находилось за пределами селения А., было страшнее всех существующих мер, которыми пользовался судья для восстановления справедливости. После окончания того трудного процесса над сомневающимся, Эрасту Арнольдовичу пришлось приложить немало усилий, чтобы искоренить крохотные початки сомнений – почти невидимые и неосознанные, которые появлялись у жителей, которые слышали речи оскопляющие единственную правду. И, вот, спустя долгие годы к нему в кабинет входит человек, который признал себя сомневающимся. Судья, увидев его, подумал, что Иван начнет кричать о своем озарении, будет всеми способами пытаться донести до людей свое открытие, но ничего из этого тот не предпринимал: он лишь неуверенно и сконфуженно стоял в дверях.
– У меня есть предложение. – Сказал Иван, наблюдая за беспокойством судьи.
– Какое? Какое предложение? Тебя судить нужно. Но как тебя судить… Ох, – вздохнул он, – ведь все узнают о том, что появился новый сомневающийся. Ты внесешь раздор и разлад в общество; мне вновь придется принимать усилия, и усилия в высшей степени трудоемкие, чтобы восстановить равновесие в умах людей!
– Я сам уйду. Не нужно суда. Я уйду, а вы, Эраст Арнольдович, скажите, что я утонул или потерялся.
– Как я это скажу? Как ты смеешь мне такое предлагать?! Ведь это будет противоречить единственной правде! Кому как не тебе знать, что это невозможно!
– Почему невозможно? Взвесьте сами: на одной чаще весов – благополучие и спокойствие общества, на другой – ваша единственная правда. Я проснулся сегодня и услышал в голове голос, который сказал: «Ложь может нести благо, если ложь спасет человеческие души». Сказав жителям, что я умер, вы скажите ложь, но она будет нести пользу для всех людей. Если скажите правду, что я сомневающийся, то люди начнут ворошить прожитое, вспоминать прошлого сомневающегося, начнут рассказывать в тайне и осмотрительности друг другу те истории… помните те истории, в которых говорится о том, что за пределами селения А. не так уж и ужасно, как вы нам всем ведаете, и, что, более того, там намного лучше? Взвесьте здраво, Эраст Арнольдович…
– Молчать! – Крикнул судья, перебив Ивана в негодовании. – Твои речи оскорбительны! За них тебя можно отправить под суд сейчас же!
– Я сомневающийся. Мне уже все равно. Я буду изгнан, и сейчас я забочусь о том, что будет с селением после моего публичного изгнания.
– Нет. Нарушить правду я не в силах. – Сказал судья. – Придется тебя судить. И что потом будет… начнется новая волна сомнений… Зачем ты сомневаешься?! Правда – она и есть просто правда, кому как не тебе это знать? Пусть другие люди спорят из-за нее, кричат друг на друга, обличают друг друга, но они не сомневаются и не задают вопросов: они действуют. Иван, я знаю тебя с малолетства: ты всегда был смиренным, послушным и правдивым в высшей степени. Твое молчание для многих казалось малодушием и, скорее, пороком, чем положительным свойством характера, но я знаю, что твое молчание было милостыней, которую ты каждый раз подавал тем, кто в ней не нуждался. Ты мог молчать о своей правде, тем и отличался ото всех. А теперь… теперь, ты начнешь говорить, и что же ты начнешь говорить! Неужели правду говорили предки, что тот, кто долго молчит, молчит для того, чтобы в один день начать говорить и говорить так, чтобы его услышали те, кто раньше не слышал его громкого молчания. Что с тобой случилось?!
– Есть еще одно предложение. – Сказал Иван, оставив без внимания эмоциональный выпад судьи.
– Какое?!
– Я совершу побег. Я сам уйду. Прямо сейчас. Вы скажите всем жителям, что я сбежал, а о причине умолчите. Чтобы не было никаких лишних разговоров, мыслей и расспросов – увеличьте количество рабочих часов и ужесточите нравственные учения: всего две недели, проведенные в высоком темпе, и обо мне забудут. Эраст Арнольдович, вы – судья и в вашем распоряжении находится высшая правда, и, если это так, то ваша правда в том, чтобы сохранить равновесие и ясность умов жителей.
Судья с тревогой посмотрел Ивану в глаза, но в последующую секунду он будто что-то для себя решил.
– Уходи. Прямо сейчас. Но не забывай, что, покинув нас, ты не лишишься своей главной обязанности – обязанности говорить правду. Там, куда ты идешь, правда не в большой цене; о правде в тех краях принято говорить, как о ценности, но лишь как о ценности лицемерия и соблюдения тошнотворной формальности. Там, куда ты отправишься, это называется хорошим тоном. И ты, оказавшись среди тех людей, не сможешь лгать, потому что правда течет в твоей крови. Тебя ждут большие испытания.
– Не сомневаюсь в искренности ваших слов. – Сказал Иван. – Но мне не страшно. Мне было беспокойно и тревожно с самого утра – после прозрения – но теперь, поговорив с вами, я спокоен, и спокоен я потому, что есть весомая причина, по которой мне необходимо уйти из селения. Если предположить, что в наших краях не было бы наказания сомневающегося в виде его изгнания, то я бы ушел сам.
– Какая причина? Почему бы ты ушел? Твой тон ужасен! Когда кто-то говорил у нас в сословном наклонении!
– Эраст Арнольдович, вам, правда, нужно знать причину? Она вам не понравится.
– Говори сейчас же!
– Причина в том, что мне нужно знать. То, что я почувствовал сегодня утром – это необъяснимо; мне нужно знать обо всем; мне необходимо знать, в чем нас всех обманывают в этом селении и что было правдой, а что было ложью.
Лицо судьи покраснело; повисло тягостное молчание. Эраст Арнольдович несколько раз в негодовании поиграл скулами, ударил кулаком по своему столу и прокричал, что есть мочи, указывая на дверь рукой:
– Вон! Пошел вон, изгнанник! За такие слова! Обман! Не хочу тебя больше видеть!



