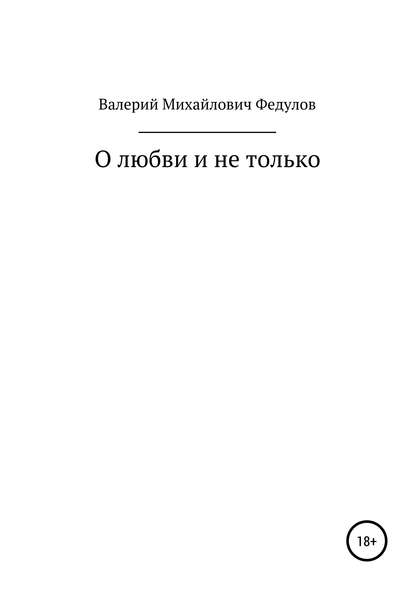 Полная версия
Полная версияО любви и не только
Перший іспит був з української мови та літератури – твір. Я витяг зошит Ліди Фарцевої і декілька разів перечитав нотатки про Лесю Українку, недарма вулиця, на якій знаходився головний корпус навчального закладу носить її ім’я. І о, Боже, ця тема – серед трьох інших! Я старанно написав усе, що запам’ятав, та з нетерпінням чекав на підсумок. І він не забарився, коли я прийшов на усний іспит з літератури – мій твір одержав три бали. Ошелешений, я навіть не дізнався, скільки помилок треба зробити на таку оцінку! Настрій у мене було зіпсовано.
Усний іспит став ще гіршим для мене. Квиток, який я витягнув, складався з чотирьох питань, і першим стояло про творчість Івана Франка, яку я добре знав. Навіть декілька разів ходив до його музею, що був розташований неподалік дитячої залізниці, де я працював до сьомого класу. Отже, я почав з натхненням відповідати на перше питання, але викладач перервав мою натхненну розповідь, сказавши: «Цього питання Ви не знаєте, переходьте до наступного» «Так? – запитав я.– Тоді мені з Вами нема про що говорити!» Взяв квиток екзаменаційний і пішов за своїми документами. На другий день сів на поїзд і поїхав у Ленінград: прийшов лист, що там приймають в університет на філологічний факультет без обов’язкового стажу.
Ленинград встретил меня хорошей солнечной погодой, а не дождём, как поётся во многих песнях про этот чудесный город. Я поселился у знакомой жены брата в маленькой комнатке большой коммунальной квартиры недалеко от Невского проспекта. Но ни его красота, ни великолепие Зимнего дворца, ни блеск шпилей Адмиралтейства и Петропавловской крепости не отвлекали меня от главного, ради чего я приехал – экзаменов.
Первый из них, конечно, сочинение, я писал его, сидя в главном корпусе ЛГУ на Университетской набережной у раскрытого окна с видом на Неву и Медного всадника – памятника Петру Первому на другом берегу. Повезло с темой: «Образы молодых героев в советской литературе». Я, конечно, сделал упор на молодогвардейцев, добавив кое-кого из других произведений, и получил четыре балла. Такую же оценку дали и за устный по литературе, и, как ни странно, экзамен по немецкому языку. Я хорошо прочитал текст и блестяще перевёл его, хотя мне сказали, что перевод вольный, но литературный. А на вопросы отвечал, путая немецкий с венгерским, чем озадачил экзаменаторов.
Но вот история меня подкузьмила: я бойко отвечал на первые вопросы, а последний – о всем известном восстании Пугачёва, почему-то ввёл меня в ступор. Я не смог назвать характер восстания, его движущую силу и даже вспомнить соратников предводителя ! В результате – три, я не дотягивал до проходного балла. Но всё же в список поступивших попал, хотя был в числе последних. Сразу послал радостную весть домой, купил билет на завтра и перед отъездом зашёл в деканат за справкой о приёме. А там меня огорошили: пришла разнарядка на пятерых абитуриентов из народов Севера, и пять человек из списка пришлось убрать, в их числе и меня. Так я покинул Ленинград, не полюбовавшись на достопримечательности и впопыхах забыв выключить газ в плите на общей кухне, где на верёвке сушились мои постиранные носки…
Львов вернул меня к реальной жизни – надо было искать работу и зарабатывать стаж. С ним я мог бы сдавать хоть все экзамены на тройки: проходной балл для «трудовиков» был меньше, ведь знания, приобретённые в школе, с годами «выветриваются»!
На работу меня устроили по «блату» – знакомству: в трёхэтажном особняке по улице Байкальской на Погулянке кроме брата с женой Инной Малышевой, её сестры с мужем Борисом Теменевым и дочкой Катей проживали ещё жильцы. Одна из семей была очень дружна с молодыми – это Николай Васильевич и Марта Алексеевна Колонские и их взрослая дочь Даша, которая была тайно влюблена в Лёву. Так вот, Николай Васильевич, который работал референтом директора Львовского завода автопогрузчиков, кстати, единственного предприятия подобного рода в Советском Союзе, и устроил меня учеником слесаря в экспериментальный цех.
Завод занимал огромную территорию между двух улиц на окраине Львова и выпускал с конвейера автопогрузчики для всего Союза. В нашем же цехе собирали вручную погрузчики на экспорт, в основном в арабские и африканские страны: ставили кабинки, покрашенные в жёлто-оранжевые цвета, и различные прибамбасы в виде мягких сидений, гидравлического руля и удобных ручек управления. А на советских погрузчиках водитель работал под открытым небом и в дождь, и в снег и в мороз. Но зато они не ломались и были надёжными в любую погоду! Сборка экспорта проводилась в большом цехе несколькими рабочими, женщины занимались покраской кабин, правда, в отдельном боксе, но едкий запах проникал повсюду, вот почему я с тех пор ненавижу оранжевые апельсины.
Нашу родительскую квартиру брат сдавал рыночным торговцам с Кавказа, и она всегда была заставлена ящиками с экзотическими фруктами, от одного вида которых меня воротило. Поэтому я жил у Лёвы на Погулянке, и до какого-то времени это всех устраивало. Я вставал в пять утра, наскоро съедал приготовленный с вечера Инной завтрак и мчал вниз по улице на конечную остановку трамвая номер семь. Ехал с полчаса, досыпая на заднем сиденьи, через весь город почти до другого конца маршрута. Хорошо, что наш цех находился рядом с проходной завода и я, проскочив её за пару минут до семи – начала смены, мог расслабиться.
На работе мне доверили «ответственный» участок: очищать от ржавчины, заусениц и грязи различные железяки, подготовленные к покраске. Работал рашпилем, зубилом и даже кувалдой, но чаще всего наждачкой и вручную. Меня как ученика отпускали после обеда, но эта «лафа» продлилась недолго, мне без всяких проволочек дали шестой разряд. Я стал получать на шесть рублей больше и смог «обмыть» посвящение в рабочие, купив выпивку и закуску на всех членов бригады. Пришлось трудиться полный рабочий день, выходить во вторую смену и даже в ночную. В первый же выход я опозорился: ближе к полуночи забился в радевалку и там на куче тряпья и телогреек заснул. Меня нашли только утром и послали выспаться днём, чтобы не спать на работе.
Постепенно всё «устаканилось», я привык к сменам и освоился с физическим трудом, иногда даже получая похвалу от работяг, которые прозвали меня «энтелегентом». Конечно, я уставал и после работы уезжал в промасленной спецовке. не переодеваясь, хотя у нас был душ и у каждого свой шкафчик. В трамвае меня сторонились, а брат спрашивал: «Ты где работаешь, в экспериментальном цехе или в кочегарке?»
В цехе я познакомился со своим будущим другом и единомышленником Эдиком Верток, который как и я зарабатывал стаж для поступления в вуз. Правда, он устроился на «лёгкий труд»: в его распоряжении была механическая пила по металлу, ему подвозили трубы, балки, уголки, которые надо было распилить согласно размерам. Эдик только следил, чтобы ножовочное полотно не перегревалось, поливая его жидким раствором. А я потом зачищал распиленные куски металла от заусениц, и увидев, как я усердствую, он взялся мне помогать. Мать Эдика когда-то снималась в кино, отец как-то работал на Одесской киностудии, он же хотел стать кинорежиссёром. И я туда же: буду кинокритиеком ! Так, сидя на железных трубах и вдвоём орудуя рашпилями, мы говорили о высоком искусстве.
Эдик работал только в первую смену, нарезая «железяк» на все три, потом и меня перевели к нему, учитывая, наверное, мой ночной сон в раздевалке, поэтому общались ежедневно. Но вне цеха мы встречались только по воскресеньям, по субботам отсыпались. Он жил далеко, почти в конце маршрута трамвая номер четыре, это по дороге на курортный пригород Брюховичи, поэтому договаривались на «стрелку», где сходились четвёрка и семёрка. Ходили мы по театрам, Эдик доставал контрамарки через своих родителей – в знаменитый Оперный, украинский имени Марии Заньковецкой, но чаще всего в театр Прикарпатского военного округа, где пересмотрели все спектакли с участием Зинаиды Дехтярёвой, «на которую» ходил весь львовский бомонд.
В театре мы познакомились с двумя молодыми актрисами Лилей и Тамарой, за которой «приударил» Эдик, я больше общался с Лилей – весёлой, озорной и, как говорят сейчас, «без комплексов». Они играли в основном в «массовке», но выгдядели на сцене очень эффектно. С их помощью мы не только посещали спектакли, но и ходили на «генеральные прогоны», куда приглашали партийную элиту и журналистов. С ними я даже однажды навестил заболевшую Зинаиду Дехтярёву дома!
Мы купили тортик, фрукты, цветы и вошли в шикарную квартиру в центре города. Зинаида Николаевна благосклонно приняла угощения и с чисто женским любопытством спросила, чей я. А Лилька смеясь ответила: «Общий!» Потом с юмором изображала молодую актрису Жанну Тугай, которая заменяла Дехтярёву в спектакле «Вива, Куба!». Но в пьесе Салынского «Барабанщица» её Нилу Снежко заменить не мог никто, эту роль Зинаида Дехтярёва сыграла более пятидесяти раз и всегда с большим успехом!
Она давно была моей любимой артисткой, когда ещё пела в театре музыкальной комедии, который почему-то перевели в Одессу, а Дехтярёва осталась во Львове То ли из-за первого мужа Алексея Земцова, героя-любовника театра русской драмы, перехавшего из Харькова, то ли потому, как говорили злые языки, стала терять голос. Но я точно потерял дар речи, когда вдруг увидел её на трамвайной остановке возле нашего дома! Известная актриса стояла с чемоданом и беспомощно озиралась вокруг. Я, только что из-за границы, в джинсах и кожаной куртке, подошёл и спросил: «Чем могу помочь?» – «О, да, я опаздываю на поезд и не знаю, как попасть на вокзал» – «Трамвая Вы не дождётесь, я поймаю такси» Потом помог ей сесть в машину, устроил чемодан в багажник и в знак благодарности услышал слова: «Впервые вижу такого учтивого молодого человека». Мог ли я предположить, что когда-либо буду танцевать вальс с великолепной Зинаидой Дехтярёвой на юбилее театра ПрикВО!
Жизнь театральной богемы так затянула нас, что мы с Эдиком старались не пропускать ни одной «светской тусовки». Проходили они в основном после спектаклей в артистическом клубе «Орфей», который располагался в здании театра украинской драмы, но со стороны напротив оперного, где Эдик со своим орлиным профилем подвизался в ролях гладиаторов и оруженосцев. Поэтому у него было театральное удостоверение, с которым пускали всюду, а за ним и меня. В «Орфее» не только ели, пили и танцевали, но устраивали «капустники» и обсуждали премьеры в театрах. Там часто появлялись «заньковчане» Фёдор Стригун, Богдан Ступка, Слава Сумской, с которыми Эдик вступал в горячие споры об искусстве кино, я же помалкивал, ибо ораторское умение было мне не дано, предпочитая излагать свои мысли в дневнике.
А ещё мы нередко участвовали в вечеринках на дому. Тогда не было многочисленных ресторанов и кафе, да и там не принято встречаться: дорого и неуютно. Другое дело у кого-нибудь на квартире, каждый приносил то, что мог: еду, выпивку, музыку, известные, но официально властями не принятые песни Владимира Высоцкого, Виктора Цоя, групп «Машина времени», «Наутилус-Помпилиус» и других.
Все ели, пили, веселились и свободно говорили и спорили обо всём: политике, искусстве, любви и некоторые даже ухитрялись заниматься ею в укромных уголках…
Но одна тема враз объединила всех: 12 апреля 1961-го года впервые в мире в космос полетел советский гражданин Юрий Гагарин! Ликование было всеобщим, и верилось и не верилось, что наш человек в космосе! И хотя он сделал один оборот вокруг земного шарика, это было не важно, главное: космос наш! Потом все дружно прилипали к экранам телевизоров, а у кого его не было, ходили к соседям, и следили за поездками Первого космонавта по всему миру и пили за его здоровье!
Но наступил май, надо было кончать пьянки-гулянки и готовиться к вступительным экзаменам, которые в творческих вузах проводились раньше. Мы уволились с любимого завода, устроив прощальный «сабантуй» прямо в раздевалке. На прощание работяги подарили по медной увесистой эмблеме автопогрузчика и оставили масляные отпечатки пальцев на первой страничке первой трудовой книжки.
В конце июня мы с Эдиком двинули в Москву, и не куда-нибудь, а во ВГИК – Всесоюзный государственный институт кинематографии. Но там случился облом. На режиссёрский надо было иметь хотя бы запись о работе в театре, а у нас стояло общее: слесарь по металлу. А мне на киноведческий необходимо было представить статьи или очерки, хотя бы в рукописном виде. Не мог же я в комиссию подать свой дневник! Так не солоно хлебавши мы разбежались: Эдик сам подался к своим родственникам, которые жили где-то в Подмосковье, а я пошёл к Филиппу Латипову, чей адрес у меня был.
Это оказалось недалеко от Киевского вокзала в большом доме на набережной. Фила дома не оказалось, призвали в армию – он был старше меня, но его родители приняли меня радушно: накормили, напоили и уложили спать в нише окна, на его кровать. Я мог даже лёжа видеть и слышать, как поезд метро, вырываясь из подземелья, с грохотом катил на мост, чтобы скрыться под землёй на другом берегу Москва-реки.
На следующий день я поехал на Метростроевскую улицу, в МГИМО – Московский государственный институт международных отношений, надо было оправдать предсказание Маргариты Генриховны! Но и там мне дали от ворот поворот: в этот вуз принимали только по направлению партийных или комсомольских органов – этого не было в справочнике. Слегка расстроевшись, я отправился на Красную площадь.
Поначалу даже заблудился, пошёл из метро в другую сторону и оказался напротив шикарной гостиницы «Метрополь» и даже вошёл внутрь. Потом развернулся и стал в небольшую очередь в мавзолей Ленина, мумия вождя меня совсем не впечатлила – и чего люди раньше простаивали по несколько часов? Мне больше понравилась кремлёвская стена с именами известных людей, чей прах захоронен в ней, и Александровский сад с царским гротом. Через Манежную площадь я попал в здание факультета журналистики МГУ – вот куда надо поступать! Но и здесь нужны уже опубликованные творческие работы. С мыслью об этом я покатался на речном «трамвайчике» и вышел на пристани возле Киевского вокзала. Купив билет во Львов, бросил горсть монет в воду и сказал: «Я ещё вернусь!»
Дома меня ждал сюрприз: приехали отец в отпуск и мать с сестрой и все вместе с братом так меня обработали, что я подал документы в политехнический. Всё оставшееся лето зубрил физику, химию и математику и с трудом поступил, но не на РТФ – престижный радиотехнический, а на факультет автоматики и вычислительной техники – ФАВТ. Его только организовали с учётом на будущую перспективу, но мне было всё равно, душа к технике не лежала. И приняли меня скорее всего из-за матери со званием «Героиня» – пятеро детей, и благодаря брату, который в институте был на хорошем счету.
Реформа образования коснулась и высшей школы – собрали из таких, как я, без двухлетнего стажа работы одну группу и отправили на приборостроительный завод п/я 49 – дорабатывать стаж. Это был так называемый «ящик» – предприятие оборонной промышленности. Устроили нас в сборочный цех, так что мы днём работали, а вечером учились, как говорили, «очно-заочно», что не совсем верно. На следующий год обещали перевести сугубо на дневное обучение, правда, не всех, а только тех, кто успешно сдаст две сессии.
На заводе мне понравилось – чистенькая территория, аккуратные дорожки и газоны вокруг нескольких зданий. Наш цех был на третьем этаже самого большого из них – с высоким потолком и широкими окнами, так что было видно Стрийскую улицу и парк. Через всё помещение тянулся длинный конвейер, за которым на вращающихся креслах сидели с полсотни девушек и женщин в белых халатах и шапочках, все, как на подбор – красавицы! Мужчин было мало, только на контроле, приёмке и обкатке приборов, поэтому нас приняли доброжелательно: доверили «самое главное» – подносить работницам ящики с винтами, гайками, мотками проводов и прочими деталями. Так постепенно познакомились со всеми и определились с симпатиями, потому что некоторые «девицы» вызывали нас сигнальными лампочками, даже если у них все детали были в достаточном количестве.
В этом женском «царстве» особенно выделялась одна – Диана Ковальчук: «чорні очі, чорні брови», свои, не нарисованные, светло пепельные волосы, может, слегка подкрашенные – справжня українська красуня. Я частенько подносил ей детали, иногда даже помогал в монтаже, когда что-то не ладилось, просовывая руки в корпус прибора через её плечи. Диана охотно принимала мои услуги, ходила со мной на «пятиминутках» в курилку, затягиваясь дымом от тонких сигарет и загадочно улыбалась. Однажды она не вышла на работу, прошёл слух, что её бросил парень и она пыталась отравиться, но её спасли. Она жива и не хочет никого видеть. Меня срочно посадили на её место, так как я знал эту операцию, а Диана вернулась спустя неделю, но уже не такая весёлая и без «бисеринки» в глазах, а потом и вовсе уволилась. Я же подумал, ну и дурак этот парень, как можно было бросить такую красавицу!
Вскоре нас всех посадили за конвейер, поставили на тяжёлые физически операции, где надо подгонять вручную кронштейны или крышки приборов. Это привязало к месту, но я всё же ухитрялся перед обедом заделать несколько операций, опережая конвейер, чтобы успеть занять очередь в заводскую столовую для всей бригады. Так мы выгадывали минут пятнадцать от получасового перерыва и могли ещё погулять, покурить и поговорить о футболе, о женщинах и вообще о смысле жизни…
На заводе мне нравилось, хотя приходилось вставать рано и втискиваться в переполненный троллейбус, который еле-еле тащился вверх по улице Стрийской и останавливался почти у прохолной. А вот домой, я жил с родителями, иногда ходил вниз через старинный парк и наслаждался его природной красотой и рукотворными аллеями, которые сходились возле пруда с живыми белыми лебедями и каменной русалкой. Но чаще всего после работы мы шли в другую сторону – по Гвардейской мимо Военно-политического училища вниз до главного корпуса Политеха, там нас ждали лекции и практические занятия. На потоке, где в большой аудитории собирались все группы, можно было и подремать или «сачкануть», предварительно отметившись у старосты о своём присутствии. А вот на практикуме надо было не только быть, но и выполнять определённые задания. Они были не сложными для меня, но на всё не хватало времени, каждый преподаватель считал главным только свой предмет. В результате контрольные работы по математике, лабораторные по физике и химии, эпюры по начертательной геометрии, не сданные вовремя, накапливались и тянулись как хвосты.
Так в труде и учёбе прошёл первый семестр, наступила зимняя сессия – пора зачётов и экаменов. Она оказалась сложной не только для меня, но и многих из нашей группы. Зачёты шли с трудом, экзамены сдавали со второго раза одному преподавателю и даже с треьего захода, но уже комиссии. Начальство увидело, что очно-заочная система обучения не даёт положительных результатов и решило видоизменить её. Нас разделили на две группы и мы стали попеременно неделю работать, потом неделю учиться днём. Конечно, мы сразу потеряли половину зарплаты, стипендия в расчёт не бралась, но зато получили больше свободного времени вечерами. Девушек в техническом вузе было мало и мы не общались со своими одногрупницами вне «школы». А я постарался восстановить театральные связи с … актрисами.
Был ли у меня с ними секс? Когда гораздо позже по телемосту СССР – США на весь мир прозвучало, что у нас секса нет, у меня он был. Сначала с Лилей в нашей квартире в то короткое время, когда там не было родителей. Она научила меня тому, о чём мы часто в мужских компаниях вели только разговоры. Потом у меня появилась Мышка-Маришка Недич из театра Юного зрителя, где она играла лисичек, зайчиков и мальчиков-подростков. С ней мы объездили окрестные замки и красивые горные сёла Прикапатья, откуда она родом. Я иногда оставался на ночь в её маленькой комнатке на втором этаже театрального здания со входом из длинного балкона, и мы с ней занимались любовью, в то время как за дверью, даже не отделённой тамбуром, ходили другие жильцы. Затем у меня была очень интересная женщина и хорошая актриса украинского театра Христина Иланская, которая приобщила меня к классической музыке. Я даже привёз из Москвы ей в подарок большую пластинку с записью «Кармен-сюиты» Бизе-Щедрина, и мы вместе слушали упоительные мелодии в её маленькой и уютной «хрущёвке» на улице Городецкой на окраине Львова. Христина много играла, хотя и не главные роли, и была занята почти во всех спектаклях театра. Поэтому наши редкие встречи заставляли моё сердце сильнее биться, особенно когда наше не частое появление в клубе «Орфей» производило восторженный фурор! Каждая из этих женщин была немного старше меня, но они очень много дали мне для физического и духовного развития, с ними я стал настоящим мужчиной.
Но эти встречи были хотя и яркими, но мимолётными эпизодами, у них – репетиции, спектакли, гастроли, у меня – работа, учёба и театральная студия в клубе связи, что недалеко от политеха. Я пошёл туда не только, чтобы заполнить свободные вечера, но и из любви к искусству. Меня сразу ввели в готовый спектакль на «главную» роль – учёного, за которым охотилась американская разведка. Но появлялся я на сцене всего два раза: в самом начале, когда меня прятали и заменяли советским разведчиком, чтобы поймать заокеанского шпиона на «живца». И в конце, когда опасность миновала и меня возвращали в семью. В главных ролях были две сестры Гришины: младшая Валя, она играла мою дочь, и старшая Лариса – по пьесе моя жена. Я, конечно, влюбился именно в неё, и когда мы под занавес появлялись на сцене, держась за руки, со словами: «А вот и мы!», я весь дрожал, чем очень смешил Ларису.
Это очень красивая женщина, но с ней у меня ничего не получилось, она была симпатией нашего режиссёра Алика Земцова, бывшего мужа Зинаиды Дехтярёвой. Роли героев– любовников были ему уже не по возрасту, но режиссёр он был неплохой: поставил нашумевшую пьесу «Валентин и Валентина», которую переиначил в «Он и она». Роль героини досталась, конечно, Вале, а героя играл Микола Задорожний, грубоватый и недалёкий парень. Его друга изображал я, появляясь на сцене один раз – в эпизоде вечеринки. Я дал волю своему «таланту» – пел, играл на пианино, который специально вытаскивали из-за кулис, острил и веселил всю компанию, Алик поощрял импровизацию. Он же придумал приём, когда герои находились на сцене за прозрачным занавесом в полной темноте, освещая свои лица фонариками лишь во время реплик – из зала это выглядело очень эффектно.
Лариса играла роль подруги героини и появлялась на сцене несколько выходов, мне же оставалось только на неё смотреть. Иногда к нам приходил Эдик, он устроился в Театр юного зрителя, где играл злодеев, бармалеев и леших. Он «ухлёстывал» за Валей, она же избегала его, хотя со мной была мила. Эдик же говорил про сестёр Гршиных: «Мы возьмём их молодостью и красотой!» Позже Валя поступила в Киевский институт театра и кино и даже снялась на студии Довженко. Однажды она приехала на премьерный показ своего первого фильма в кинотеатр «Мир», что построили на пустыре возле Старого рынка. Мы пришли почти всей компанией, даже Эдик был с нами, еле пробились в зал, помогла билетёрша, которая тоже играла у нас. Валя держалась просто и естествено, нам была очень рада и представила своего мужа – симпатичного молодого актёра, и Эдик сник. Фильм был так себе, история о том, как из детского садика сбежал маленький мальчик, но ведь главную роль – воспитательницы сыграла наша подруга по крубу – Валентина Гришина! А Лариса вышла замуж за военного офицера и он увёз её то ли на Крайний Север, то ли на Дальний Восток…
А пока наш спектакль «Он и она» пользовался большим успехом, мы показывали его на разных культурных площадках, например, в клубе железнодорожников, где был огромный зал с двухярусным балконом. Ничего, что после спектакля были танцы, из-за чего, собственно, и приходили молодые люди в клуб, но и нас они принимали очень хорошо. Тогда у молодёжи почти единственным культурным развлечением были танцы, которые каждую субботу и воскресенье проводили в этом же клубе, под названием «железка», в нашем – «связь», в клубе трамвайщиков, почему-то – «сарай», по внешнему виду, наверное. Летом танцы проходили на открытых местах, в парке Культуры, например, танцевальная площадка была ограждена решётчастым забором, поэтому её и называли – «клетка». Но там частенько случались потасовки и драки, в связи с чем постоянно дежурила милиция. На танцах молодые люди встречались, знакомились, влюблялись, был даже неписаный закон – последний танец с девушкой, которую идёшь провожать.
Но я на «танцульки» не ходил, у меня были другие, более «высокие» интересы. Директор клуба связи Евгений Моисеевич Мильтон, представлял себя: художественный руководитель Ежи Мильтон, с ударением на первом слоге, потому что «мильтон» – это прозвище милиционера. Он не только устраивал нам «гастроли», без которых театр мёртв, но и приводил знаменитостей. Однажды к нам пришла известная киноактриса Инна Макарова (фильмы: «Дорогой мой человек», «Высота», «Девчата»). После спектакля она пообщалась с нами и устроила, как сейчас говорят, «мастер-класс». Кстати, в нашем клубе начинал свою творческую деятельность знаменитый режиссёр Роман Виктюк. Его эпатажные «Служанки», где главные женские роли играют мужчины, до сих пор вызывают неоднозначную реакцию.

