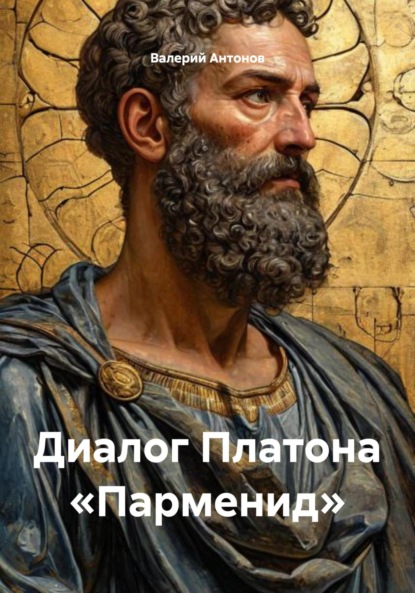
Полная версия:
Диалог Платона «Парменид»
Первая гипотеза как апофатическая теология: Интерпретация Прокла и ее отражение у А.Ф. Лосева.
Как указывает А.Ф. Лосев в «Истории античной эстетики», неоплатоник Прокл понимал Первую гипотезу «Парменида» (137с-142а) как учение о Едином (τὸ Ἕν) в его чистейшем виде – принципе, абсолютно трансцендентном всякому бытию и мышлению. Это прочтение превращает логическое упражнение в фундамент отрицательной (апофатической) теологии.
Суть интерпретации Прокла.
Для Прокла, как систематизатора неоплатонизма, гипотезы «Парменида» были не абстрактной логикой, иерархией божественных начал. Первая гипотеза описывает высшее из них – Единое, которое является причиной и источником всего сущего, но само превосходит всякое бытие.
Трансцендентность бытию: Единое не есть бытие. Оно – «сверх-сущее» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας), как позже выразится Плотин. Если бы оно было, оно было бы чем-то определённым, отличным от иного, то есть вступало бы в отношения, что невозможно для абсолютно простого начала.
Трансцендентность мышлению: Поскольку Единое лишено всякой формы, структуры и определённости, оно непостижимо для дискурсивного мышления. Ум (Νοῦς), рождающийся из него, может лишь устремляться к нему, но не схватить его как объект.
Подтверждение в тексте Платона (с комментарием)
Логические выводы Парменида в Первой гипотезе напрямую ложатся в основу этой теологической интерпретации.
Отрицание целого и частей:
Текст Платона (137с-d): «Не имеет оно и частей, и не есть целое… Часть ведь бывает частью целого… а целое необходимо состоит из частей».
Комментарий Лосева/Прокла: Атрибуты «целое» и «часть» относятся к сфере бытия, где есть структура и сложность. Единое, будучи абсолютно простым и первым, предшествует самому разделению на целое и часть.
Отрицание формы и границ:
Текст Платона (137d): «Не имеет оно ни начала, ни конца, ни середины… Ибо начало и конец – границы всякой вещи».
Комментарий: Иметь границу – значит быть ограниченным, то есть быть чем-то в противоположность чему-то иному. Единое же беспредельно (ἄπειρον) не в смысле бесконечной протяженности, а в смысле абсолютной неопределенности и запредельности всякому ограничению.
Отрицание пространства и времени:
Текст Платона (138а, 141а): «Оно не находится ни в себе, ни в ином»; «Не причастно оно и времени».
Комментарий: Находиться «где-то» – значит быть contained within бытием. Быть причастным времени – значит меняться или длиться. Единое вне пространства и времени, оно пребывает в вечности (αἰών), понимаемой как неподвижная, неделимая полнота, а не бесконечная длительность.
Апофатический итог:
Текст Платона (142а): «Следовательно, для него нет ни имени, ни слова, ни какого-либо ощущения его, ни знания».
Комментарий: Это кульминация апофатического метода. Любое имя или логос (понятие, определение) уже есть ограничение и определение. Единое – это «Не-иное» и «Молчание», к которому можно прийти только через последовательное отрицание всех атрибутов.
Философский смысл и значение.
Единое как первоначало: В системе Прокла, выстроенной по образцу «Парменида», Единое – это не бог-личность, а безличный, сверхразумный принцип, из которого через посредство Ума и Души эманирует (истекает) все мироздание. Оно есть «Первопричина», сама не имеющая причины.
Диалектика как путь к богопознанию: Первая гипотеза демонстрирует, что подлинное «познание» высшего начала возможно лишь как мистическое соединение (ἕνωσις), достигаемое после того, как рассудок, пройдя через все отрицания, осознает свое бессилие и умолкнет.
Вклад Лосева: А.Ф. Лосев, сам работавший в традиции неоплатонизма, видел в этой интерпретации Прокла не просто исторический курьёз, а глубочайшее проникновение в структуру платоновской мысли. Он показывал, что «Парменид» через призму неоплатонизма раскрывается как трактат о том, как Абсолют, оставаясь невыразимым, полагает иное бытие и через его структуры возвращает это бытие к самому себе.
Таким образом, интерпретация Первой гипотезы как учения о трансцендентном Едином превращает «Парменида» из логического диалога в краеугольный камень всей последующей европейской мистико-теологической традиции.
Трактовка Стивена Герша: Апофатический метод как структура мысли.
Для Стивена Герша, одного из ведущих современных интерпретаторов неоплатонизма, ключ к пониманию Первой гипотезы «Парменида» лежит в концепции апофатического (отрицательного) метода. Его анализ выходит за рамки исторической реконструкции и раскрывает фундаментальную структуру философского мышления о абсолютном.
Суть апофатического метода по Гершу.
Герш настаивает, что отрицание всех предикатов в Гипотезе I – это не софистическое упражнение и не просто подготовка к мистическому опыту, а позитивный эпистемологический процесс. Цель этого метода – не уничтожить объект, объявив его небытием, а возвести мысль (ἀναγωγή) к тому, что выше всякого определения.
Это «возведение» состоит из нескольких взаимосвязанных шагов:
Деконструкция обыденного языка: Обычный язык и мышление оперируют предикатами (бытие, единство, форма, отношение). Герш показывает, что Платон через Парменида систематически демонстрирует: эти предикаты, применимые к миру сущего, неизбежно искажают природу абсолютного Единого. Они превращают его в один из объектов внутри бытия, тогда как оно есть условие возможности самого бытия.
Отрицание как определение трансценденции: Каждое отрицание («не имеет частей», «не-сущее») – это не просто «нет», а способ определения через противоположность. Утверждая, чем Единое не является, мы постепенно очерчиваем сферу его абсолютной инаковости. Его «не-предикативность» и есть его единственно возможный «предикат».
«Не-сущее» как «Сверх-сущее»: Герш подчеркивает, что платоновское «не-сущее» (μὴ ὄν) в данном контексте – это не пустота (οὐκ ὄν), а полнота, превосходящая бытие. Единое есть «не-сущее» не потому, что его нет, а потому, что оно является источником и причиной бытия и, следовательно, не может быть ограничено его категориями. Оно – «сверх-сущее» (ἐπέκεινα τῆς οὐσίας).
Ключевой вывод Герша: Мышление на своем пределе.
Герш видит в этом процессе не уничтожение мышления, а его кульминацию. Когда мысль последовательно отрицает все, что она может помыслить, она достигает своего собственного предела. В этот момент:
Мышление осознает свою собственную природу: Оно понимает, что оно структурировано категориями бытия и потому не может адекватно схватить то, что предшествует бытию.
Оно открывается для иного модуса постижения: Отрицательный метод подводит мысль к порогу, где дискурсивное познание сменяется интуитивным схватыванием («непосредственным усмотрением», как говорят неоплатоники). Молчание становится высшей формой философского высказывания.
Для Герша апофатический метод в «Пармениде» – это не мистический трюк, а строгий демонстрационный процесс, показывающий, как само логическое мышление, будучи доведенным до крайности, необходимо указывает на реальность, его превосходящую. Первая гипотеза является парадигмой того, как философия может говорить о невыразимом, не выражая его, а лишь точно обозначая его место как предела и основания всей мыслимой реальности.
Трактовка Ю.А. Шичалина: Многоплановость «Парменида» как методологический принцип
Российский исследователь Ю.А. Шичалин в своих работах, и особенно в предисловии к переводу «Парменида», формулируетcrucialный для современной науки тезис: отход от однозначных трактовок и признание принципиальной многоплановости диалога. С его точки зрения, «Парменид» – это не текст с одним скрытым смыслом, а сложный философский инструмент, работающий одновременно в нескольких регистрах.
Шичалин выделяет как минимум три неотъемлемых и взаимосвязанных плана диалога:
1. Полемический план: Критика мегарской школы.
Первая часть диалога – это не только критика «раннего» Сократа, но и острая полемика с современными Платону философскими оппонентами, в частности, с Мегарской школой (Евклид из Мегары).
Суть позиции мегариков: Они, следуя элейской традиции, отрицали множественность и становление, утверждая строгое единство бытия. Любое высказывание о множественности или изменении считалось логически противоречивым.
Ответ Платона: В первой части Платон, через критика Парменида, показывает, что и их собственная позиция уязвима. Если строго следовать логике, то и понятие «Единого» (центральное для элейцев и мегариков) приводит к неразрешимым апориям, если понимать его догматически. Таким образом, Платон демонстрирует, что его оппоненты также не обладают окончательной истиной.
2. Методологический план: Упражнение в логике
Вторая часть диалога, по Шичалину, – это, прежде всего, демонстрация и отработка диалектического метода.
Цель – не результат, а процесс: Важны не столько противоречивые выводы гипотез, сколько сам ход рассуждения. Платон показывает, как необходимо исследовать любое фундаментальное понятие («Единое»), рассматривая все возможные следствия как из его утверждения, так и из отрицания.
Логический тренинг: Это «гимнастика» для ума, подготовка философа к тому, чтобы не попадаться в ловушки догматизма и уметь видеть все стороны проблемы. Диалог учит критическому мышлению в его высшей, философской форме.
3. Онтологический план: Продумывание фундаментальных проблем
Несмотря на полемическую и методологическую направленность, диалог не сводится к чистой логике. Его ядром остается глубинное онтологическое исследование.
Анализ категорий: Платон систематически исследует отношения между ключевыми категориями всякого мышления о бытии: Единое и Многое, Бытие и Не-бытие, Тождество и Различие, Покой и Движение.
Преодоление кризиса теории идей: Вторая часть предлагает не явный, а имлицитный ответ на апории первой части. Она показывает, что «Единое» (как прообраз любой идеи) не может быть понято как простая сущность среди других. Оно должно мыслиться диалектически: и как трансцендентное начало (Гипотеза I), и как имманентный принцип структуры всего сущего (Гипотеза II). Это снимает проблемы «третьего человека» и «хорисмоса».
Синтез Шичалина: Единство в многообразии.
Главная заслуга Шичалина – в отказе от выбора «или-или». «Парменид» не является или только критикой мегариков, или только логическим упражнением, или только онтологическим трактатом. Он является всем этим одновременно.
Полемика задает конкретно-исторический контекст и остроту проблеме.
Логика предоставляет инструмент для ее решения.
Онтология является конечной целью всего предприятия.
Такой многоплановый подход позволяет, наконец, примирить многие, казалось бы, взаимоисключающие интерпретации диалога, увидев в нем не хаос, а сложноорганизованное единство, отражающее саму сложность и многогранность философской мысли Платона.
Трактовка Д.В. Бугая: «Парменид» как системообразующий проект неоплатонизма.
В интерпретации Дмитрия Владимировича Бугая – ведущего российского переводчика и исследователя неоплатонической традиции – диалог «Парменид» предстает не просто как один из текстов Платона, а как смысловой и структурный фундамент всей последующей неоплатонической философии. Его подход можно охарактеризовать как герменевтико-системный.
1. Гипотезы как онтологические иерархии.
Бугай, будучи глубоким знатоком наследия Прокла, подробно разбирает и защищает классическую неоплатоническую интерпретацию восьми/девяти гипотез. Однако он идет дальше простого изложения. Он показывает, что для Прокла и его учителя Сириана гипотезы – это не логические абстракции, а описание реальных уровней бытия, образующих строгую иерархию:
Гипотеза I: Трансцендентное Единое (τὸ Ἕν), абсолютно запредельное бытию и познанию.
Гипотеза II: Сфера Ума (Νοῦς), где Единое, соединенное с бытием, порождает множество идей.
Гипотеза III: Уровень Мировой Души (Ψυχή), организующей космос.
Гипотеза IV: Материя (Ὕλη) как не-сущее, лишенное единства.
Бугай подчеркивает, что такая схема была для неоплатоников не произвольной конструкцией, а раскрытием имманентной структуры самого платоновского текста, которую Платон намеренно зашифровал в форме диалектического упражнения.
2. «Мгновение» (τὸ ἐξαίφνης) как ключевой герменевтический ход.
Особое внимание Бугай уделяет Гипотезе IIb – «мгновению» перехода. Он видит в ее выделении (восходящем к Сириану) не техническое уточнение, а глубокий герменевтический прорыв.
Динамизация онтологии: Введение «мгновения» превращает статичную прокуловскую «лестницу» бытия в динамический процесс эманации. «Мгновение» – это онтологический двигатель, точка, где вечное Единое «касается» времени и порождает иное, не теряя своей природы.
Преодоление парадокса: Это платоновское решение фундаментальной проблемы: как из неизменного может возникнуть изменение. «Мгновение» описывает не сущность, а чистую возможность перехода, тот зазор между покоем и движением, который делает само становление возможным.
3. Диалектика как инструмент систематизации
Согласно Бугаю, неоплатоники увидели в «Пармениде» не просто метод тренировки ума, а мощный инструмент для построения всеобъемлющей философской системы. Диалектический метод развертывания гипотез из единого принципа стал для них образцом того, как должна строиться подлинная метафизика: дедуктивно, системно, исходя из первоначала.
4. Оценка неоплатонической интерпретации
Бугай занимает взвешенную позицию. С одной стороны, он показывает, что неоплатоническое прочтение является грандиозным философским достижением, раскрывающим глубинный системный потенциал «Парменида», который мог быть не до конца осознан самим Платоном. С другой – он признает, что это интерпретация, мощная и последовательная, но не обязательно тождественная единственному возможному смыслу диалога.
Для Д.В. Бугая «Парменид» – это проект, который Платон набросал, а неоплатоники – блистательно достроили. Через их призму диалог предстает как своего рода «мета-текст», содержащий в свернутом виде всю архитектонику будущей неоплатонической метафизики. Его анализ позволяет увидеть в «Пармениде» не хаотичный набор гипотез, а стройный каркас, на котором была возведена одна из величайших философских систем в истории.
Трактовка С.В. Месяц: «Парменид» как логико-диалектический эксперимент
В интерпретации Светланы Витальевны Месяц – ведущего отечественного специалиста по античной философии и переводчика «Парменида» – диалог предстает прежде всего как логико-диалектический эксперимент, направленный на исследование фундаментальных философских понятий. Её подход можно охарактеризовать как аналитико-диалектический.
1. Критика теории идей как логическая проверка.
Месяц подробно анализирует первую часть диалога, показывая, что критика Парменидом теории идей молодого Сократа – это не просто полемика, а систематическая проверка логической состоятельности ключевых понятий платоновской метафизики:
Проблема причастности рассматривается как логический парадокс
Апория «третьего человека» анализируется как демонстрация внутренних противоречий в понимании отношения между идеями и вещами
Критика показывает необходимость более строгого логического аппарата для построения метафизической теории
2. Диалектика гипотез как методологический прорыв
Особое внимание Месяц уделяет второй части диалога, рассматривая её как демонстрацию нового философского метода:
Диалектика как исследование всех возможных следствий из данной гипотезы
Систематический характер гипотез, образующих единую логическую структуру
Многовариантность подходов к пониманию Единого – от абсолютно трансцендентного до полностью имманентного
3. Логическая структура гипотез.
Месяц подробно анализирует логическую архитектуру гипотез, выделяя:
Чёткую симметрию между утвердительными и отрицательными гипотезами
Систематический переход от рассмотрения Единого к анализу Иного
Логическую завершённость всей конструкции, где каждая гипотеза занимает строго определённое место
4. Философское значение диалектического метода.
В трактовке Месяц, главное достижение «Парменида» – это:
Разработка универсального философского метода, применимого к исследованию любых фундаментальных понятий
Демонстрация продуктивности диалектики как способа философского исследования
Создание образца систематического философского мышления
5. Историко-философский контекст.
Месяц рассматривает «Парменид» в контексте развития античной философии:
Преодоление элейской традиции при сохранении её логической строгости
Критический диалог с современными Платону философскими школами
Подготовка почвы для аристотелевской разработки логики и метафизики
Научный вклад Месяц:
Новый перевод «Парменида» на русский язык с подробными комментариями
Тщательный анализ логической структуры диалога
Исследование историко-философского контекста создания произведения
Детальная реконструкция диалектического метода Платона
Для С.В. Месяц «Парменид» – это прежде всего образец философской рефлексии над собственными основаниями, демонстрация мощи диалектического метода и фундаментальное исследование категорий, лежащих в основе всякого философского мышления. Её подход позволяет увидеть в диалоге не мистический трактат, а строгое логическое исследование, сохраняющее свою актуальность для современной философии.
Полифония интерпретаций: основные трактовки «Парменида» в отечественной и зарубежной философии.
Помимо рассмотренных герменевтико-системного (Бугай), аналитико-диалектического (Месяц) и неоплатонического (Лосев) подходов, существует широкий спектр других влиятельных трактовок «Парменида» как среди отечественных, так и среди зарубежных исследователей.
Отечественные исследователи.
1. В.В. Асмус: Логико-гносеологическая трактовка
Суть подхода: Асмус видел в «Пармениде» прежде всего гносеологический поворот в философии Платона. Диалог интерпретируется как работа, где Платон осознает недостаточность чисто онтологического обоснования теории идей и обращается к логико-гносеологическому анализу фундаментальных понятий.
Ключевой акцент: Критика в первой части – это выявление логических трудностей, а вторая часть – не построение теологии, а тренировка в анализе понятий (Единое, Многое, Бытие, Небытие) для выработки более строгого философского языка. Цель – подготовка к корректному построению теории познания. Асмус подчеркивал, что диалог знаменует переход от прямой защиты идей к критической рефлексии над их логическими основаниями.
2. А.В. Лебедев: Физикалистская и историко-философская трактовка
Суть подхода: Лебедев предлагает «физикалистское» прочтение, укорененное в истории досократовской философии. Он считает, что под маской «Единого» Платон исследует физические теории своих предшественников, в частности, апории Зенона и теорию Парменида.
Ключевой акцент: Гипотезы могут быть прочитаны как анализ различных моделей космоса: от апейрона Анаксимандра (Гипотеза I) до плюралистических систем Эмпедокла или Анаксагора (Гипотеза II). Это диалог не столько о трансцендентном, сколько о физическом единстве и множественности космоса. Лебедев настаивает на важности исторического контекста и полемики с досократиками для адекватного понимания диалога.
Зарубежные исследователи.
1. Грегори Властос (G. Vlastos) и Аналитическая школа: Логика и «Третий человек»
Суть подхода: Классический представитель аналитической традиции. Властос сосредоточился на логической структуре аргументов, особенно на апории «Третьего человека». Он видел в «Пармениде» доказательство того, что Платон сам осознал логические дефекты своей ранней теории идей.
Ключевой акцент: Для Властоса вторая часть – это не позитивное построение, а продолжение критики, перенесенной в сферу чистых понятий. Диалог – это «логический пазл», демонстрирующий необходимость более изощренной логической теории предсказации и отношения часть-целое. Его работы заложили основу аналитического прочтения Платона.
2. Констанс Мириам С. Роув (C.M.J. Rowe): «Литературно-философская» трактовка
Суть подхода: Роув настаивает на том, что «Парменид» – это в первую очередь литературное произведение, драма философского образования. Его нельзя сводить к какой-то одной доктрине.
Ключевой акцент: Цель диалога – педагогическая. Он должен не научить какой-то конкретной истине, а изменить мышление читателя, заставив его пройти через тот же путь сомнений и логических упражнений, что и молодой Сократ. Философский смысл не в выводе, а в самом процессе. Роув призывает рассматривать диалог как единое целое, где форма неотделима от содержания.
3. Митчелл Миллер (Mitchell Miller): Спиральная диалектика и самокритика
Суть подхода: Миллер предлагает оригинальную «спиральную» модель. По его мнению, гипотезы расположены не линейно, а по спирали, где каждая последующая пара преодолевает ограничения предыдущей.
Ключевой акцент: Диалог – это путешествие ума через ряд все более адекватных моделей реальности. Финальные гипотезы (V-VIII) – не просто зеркальное отражение, а демонстрация того, что только признание взаимозависимости Единого и Многого (через диалектику Гипотез II и III) позволяет избежать тупиков абсолютного отрицания. Это проект радикальной самокритики и переоснования метафизики.
4. Кеннет Сэйр (Kenneth Sayre): Онтология и не-булева логика
Суть подхода: Сэйр интерпретирует «Парменида» через призму современной логики и философии информации. Он утверждает, что Платон во второй части разрабатывает оригинальную онтологическую схему, предвосхищающую не-булевы логики.
Ключевой акцент: Противоречивые выводы гипотез – не ошибка, а указание на то, что реальность нельзя адекватно описать в рамках бинарной логики «истина/ложь». Платон исследует многозначные и паранепротиворечивые логические структуры, чтобы адекватно выразить сложность отношений между Единым и Многим. Сэйр видит в диалоге прорыв к пониманию онтологии, основанной на взаимозависимости и взаимообусловленности.
5. Джон Диллон (John Dillon): Умеренный неоплатонизм и школьный контекст
Суть подхода: Диллон, будучи историком неоплатонизма, признает ценность прокуловской интерпретации, но смягчает ее. Он рассматривает диалог в контексте внутриакадемических дискуссий Платона.
Ключевой акцент: «Парменид» был предназначен для «продвинутых» учеников Академии и служил учебником по диалектике. Его гипотезы – это не догматическое изложение теологии, а набор учебных задач для отработки умения строить и проверять сложные онтологические системы. Неоплатоники не выдумали свою интерпретацию, но систематизировали и догматизировали то, что у Платона было учебным упражнением. Диллон восстанавливает исторический контекст, не отвергая полностью неоплатоническое наследие.
Многообразие трактовок показывает, что «Парменид» функционирует как философское зеркало: каждый исследователь и каждая эпоха находят в нем отражение своих собственных методологических предпочтений и фундаментальных вопросов – будь то логика, теология, онтология или теория познания. Эта интерпретативная полифония не свидетельствует о слабости диалога, но, напротив, подтверждает его статус одного из самых глубоких и сложных текстов в истории философии, способного порождать новые смыслы в диалоге с меняющейся мыслительной традицией.
Структура и суть гипотез во второй части «Парменида».
Вторая часть диалога (137с-166с) представляет собой серию диалектических упражнений, построенных вокруг одного центрального вопроса: «Что происходит с Единым и с иным, если Единое существует, и что происходит, если его нет?». Парменид выстраивает это исследование в виде восьми (или девяти, в зависимости от системы подсчета) логических гипотез.
Ключевая сложность и источник многообразия интерпретаций заключается в том, что термин «Единое» (τὸ Ἕν) в разных гипотезах имеет разный смысл. Он может означать:
Абсолютно трансцендентное начало (вне бытия, тождества, множества).
Логико-онтологический принцип единства, неразрывно связанный с бытием и множеством.
Просто отдельно взятую единичную вещь.
Классическая неоплатоническая интерпретация (Прокл) видела здесь иерархию онтологических уровней. Современная аналитическая традиция чаще видит логический анализ значений понятий «единое», «бытие», «множество».
Классификация гипотез (по Проклу).
Чаще всего выделяют 8 гипотез, которые образуют 4 пары, где первая гипотеза пары рассматривает Единое, а вторая – «иное» (τὰ ἄλλα), то есть все остальное, что не является Единым.
Вот подробная структура:
Пара 1: Единое в себе и для себя.Эта пара представляет собой фундаментальную дихотомию, лежащую в основе всей последующей диалектики. Она исследует два абсолютно различных способа понимания Единого: как трансцендентного начала и как имманентного принципа бытия.

