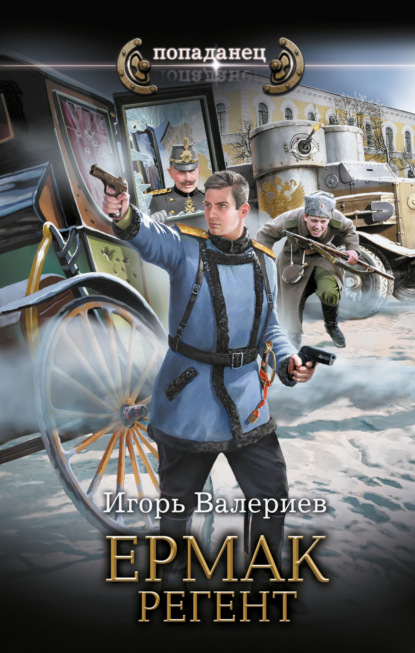
Полная версия:
Ермак. Регент
– На набережную и к мосту был ограничен допуск, Евгений Никифорович? – задал я вопрос Ширинкину.
– Конечно, Тимофей Васильевич. Беспрепятственный проход имели офицеры…
– Вот и ответ, Аркадий Францевич, – перебил я начальника Дворцовой полиции.
– Согласен, Тимофей Васильевич. Остаётся только найти и узнать, кто же он такой, – задумчиво произнёс Кошко.
«Тебе и карты в руки», – подумал я про себя.
Глава 3
Земельный вопрос
– Я рад, что все сегодня здесь собрались. – Великий князь Михаил Александрович обвёл присутствующих за столом тяжёлым взглядом.
А собрались, можно сказать, ближники правителя и опекуна, или, проще говоря, регента Российской империи, за обеденным столом Арсенального зала Гатчинского дворца – в таком удобном закутке, который и не просмотреть, и не прослушать. К тому же в обоих входах-выходах в Арсенальный зал стояли посты из трёх вооружённых «чёрных ангелов» в тяжёлой экипировке, которые не пропускали никого в зал до особого распоряжения регента.
В число ближников, находящихся за пустым, а не накрытым для обеда столом, входили: Михайловичи – Николай, Александр и Сергей во главе с отцом Михаилом Николаевичем, Ник Ник, Плеве, Макаров, Куропаткин и я. В общем, все силовики, патриарх семейства Романовых, один генерал-лейтенант и трое молодых генерал-майоров Свиты Его Императорского Величества, которые сделали ставку сначала на Николая II, а теперь на его брата и сына.
– Завтра я объявлю состав Совета Правительства, в который войдут пятеро сидящих за этим столом и ещё великий князь Алексей Александрович, – произнёс Михаил и поморщился на последних словах, словно от зубной боли.
«Слава, богу! Решился наконец-то! А то народ уже в каком-то недоумении. Точнее, в недоумении аристократия и буржуазия. Крестьянам все эти регенты и советы правительства глубоко по барабану. Для них есть малолетний царь Александр IV, который, может быть, даст им теперь землю, много земли, и они заживут, как в раю. Такие слухи, кстати, ходили по столице, так как находников-крестьян в городе было очень много», – подумал я про себя и быстро осмотрел сидящих за столом.
Макаров пару раз нервно расправил правой рукой свою шикарную бороду, что выдавало у Степана Осиповича сильное волнение. Попасть в состав Совета Правительства он явно не ожидал, да и для остальных это стало новостью. Великий князь Михаил Николаевич как-то оценивающе посмотрел на адмирала, а Ник Ник по-свойски подмигнул Степану Осиповичу.
За время участия в комиссии по подписанию мирного договора с Японией генерал и адмирал, можно сказать, подружились. Насколько это было возможно между этими двумя незаурядными личностями.
Оба отличались от окружающих своей твёрдостью и решительностью, даже граничащей с грубостью, но в то же время справедливостью и благородством. С другой стороны, у обоих был грешок – гордыня, а также из-за горячности маловато было хладнокровия – важного для полководца и флотоводца качества. Но я в любом случае был рад за адмирала.
– Михаил Николаевич, – уважительно обратился регент к патриарху семейства, – вы ознакомились с манифестом и измененным проектом конституции.
– Да, Михаил Александрович. И я, и председатель Департамента законов Эдуард Васильевич Фриш, и граф Сольский, и Николай Николаевич Герард…
Я отвлёкся от разговора, вспоминая, как Николай хотел сам объявить манифест о принятии Конституции как высшего законодательного акта. Ранее он, как и его отец, был противником конституционного строя, считая самодержавие высшей формой государственного правления, данной Богом. Как и отец, Николай считал, что либеральные реформы, которые провёл его дед император Александр II, неэффективны и вредны для страны.
Но, как говорится, вода по капле камень точит. А здесь в его окружении, можно сказать, с моей подачи появились такие либералы, как великий князь Николай Михайлович. С одной стороны, командир Гренадёрской дивизии, под защитой которой теперь находится столица и Гатчина, а с другой стороны – Филипп Эгалите[3], такое прозвище получил в высших аристократических кругах князь, ратующий за создание в России конституционного строя.
Великий князь Николай Михайлович Романов, большой поклонник республиканской Франции, искренне считал, что самодержец российский должен прислушиваться к мнению лучших представителей народа, выбранных в парламент, которые должны влиять на монарха, образуя правительство, несмотря на то что назначение номинированных парламентом министров формально выполняется монархом. Зато снятие министров с должности может инициироваться парламентскими вотумами недоверия.
В общем, старший Михайлович был сторонником парламентской монархии, при которой у монарха остаётся мало реальной власти. Монарх царствует, но не правит; он представляет своё государство на разных церемониях во внутренней и внешней политике и является символом своего государства.
Правда, Николай Михайлович, как представитель рода Романовых, считал необходимым сохранить за монархом возможность в моменты кризисов и острых конфликтов между парламентскими партиями принимать окончательное решение по утверждению законов и назначению чиновников, вплоть до роспуска правительства и парламента.
Следующим «конституционным камешком» в башмаке Николая II стал Струве Пётр Бернгардович. Отличный экономист, получив место в Аналитическом центре, а вместе с ним и доступ к большому объёму информации, господин Струве как-то быстро отошёл от марксизма, вернувшись в лоно либерализма, точнее, либерального консерватизма, экономической основой которого является минимальное государственное вмешательство в регулирование экономики страны.
Аналитические записки Струве об экономическом положении России, подаваемые императору, оказывали на Николая сильное воздействие, открывая глаза на положение подданных, особенно крестьян. А поскольку экономика и политика государства неразрывно связаны, то по запросам самодержца Пётр Бернгардович несколько раз готовил справки и по возможному государственно-конституционному строю Российской империи.
В этом вопросе Струве почему-то придерживался концепции дуалистической монархии, в которой монарх сохраняет статус, схожий с президентом в президентской республике. В отличие от парламентской монархии, в которой монарх играет в основном церемониальную роль, Струве видел юридический способ ограничения власти монарха через конституцию, в которой проводится разграничение власти парламента, монарха и министерств посредством обязанности монарха исполнять решения парламента.
Но при этом, по мнению нашего аналитика, министры должны быть ответственными только перед самим монархом и им же назначаться и смещаться. Указания монарха обязательны к исполнению так же, как и одобренные парламентом законы. Подчинение же монарха парламенту в законодательной сфере обеспечивается правом парламента вотировать бюджет государства. Как экономист Пётр Бернгардович считал экономический рычаг более надёжным, чем политический.
Честно говоря, я его в этом целиком поддерживал. Как писал, кажется, фон Клаузевиц: «Политика – это концентрированное выражение экономики, а война есть не что иное, как продолжение политики с привлечением иных средств». То есть экономика стоит во главе угла и политики, и войны, которую мы сейчас ведём. Поэтому и надо прислушиваться к экономистам.
И главный экономический вопрос, который надо срочно решать, – это земельный вопрос. Прожиточный минимум для крестьянского надела – это 4 десятины на одного мужчину. Если земля плохая и неудобная, то желателен надел в 8 десятин. В 1861 году размер надела на душу мужского пола в среднем по пятидесяти европейским губерниям достигал 4,8 десятины. Однако уже в 1880 году этот показатель упал до 3,5 десятины, а в 1900 году – до 2,6 десятины из-за роста населения.
Количество мужчин увеличивается, община должна выделять им землю. Только вот количество земли у общины не прибавляется, а остаётся тем же сам. Как результат по империи за двадцать лет среднее количество земли на мужскую, или ревизорскую, душу снизилось практически в два раза.
А маленький надел приводит к целому комплексу проблем. Такие крестьяне не могут держать крупный рогатый скот, его просто нечем кормить. В лучшем случае, в хозяйстве есть только одна лошадь. Нет скота – нет необходимого для полей навоза, плюс отсутствие молока и молочных продуктов. Далее для таких крестьян либо полная кабала, либо перебираться в город, чтобы выжить.
По данным 1900 года, в Российской империи восемьдесят пять процентов населения – это крестьяне, при этом 35,6% крестьянских хозяйств относится к малоземельным, то есть с наделом до 5 десятин, причём из этих 35,6% вообще без земли 14,9%. Ещё 34,7% имеют надел от 5 до 10 десятин, чуть больше необходимого минимума.
По сути, все эти люди живут как бы вне государственной экономики, так как потребляют почти всё выращенное, из-за этого не могут позволить себе купить продукцию российской промышленности, а в неудачные годы просто умирают от голода. Сейчас в Российской империи проживает около ста сорока миллионов человек. Кажется, огромный рынок, но по факту почти семьдесят процентов населения живёт вне его. Даже не живёт, а выживает.
Причём это касается и основной массы помещичьих хозяйств. Крепостное право в России – это не уникальное явление. В европейских странах процесс его отмены начался всего на полвека раньше. Сама аграрная реформа Александра II очень напоминает прусскую. Личная свобода, выкупные платежи, множество привилегий для землевладельцев-юнкеров…
Только в Пруссии в результате реформы сельское хозяйство перестроилось на капиталистический лад. Например, безлошадные и однолошадные изначально выкупать землю не имели права. В результате юнкера за счёт выкупных платежей создали крупные хозяйства, крестьяне разделились на богачей и батраков, а часть подалась за лучшей долей в города. Казалось бы, земельный вопрос и в царской России должен был решиться сам собой по мере проникновения капитализма в село.
Однако в Российской империи существовала община, которая сдерживала разорение отдельных своих представителей, а прирост сельского населения намного превышал европейский уровень. Это оказывало влияние не только на крестьянские, но и на помещичьи хозяйства. Рабочая сила была чрезвычайно дешёвой, и её было много. Намного проще и выгоднее для помещика было не заниматься своими землями, а сдавать их в аренду. Вначале за часть урожая или отработку, а потом за деньги. По данным Струве, в европейских губерниях таких 83–85% помещичьих хозяйств.
Но, несмотря на то что в собственности помещиков после реформы 1861 года оказались леса, луга и остальные земли, которые требовались крестьянам для нормальной жизни, такие усадьбы оказывались такими же малорентабельными, как и крестьянские. Помещики хотели получать, а не вкладывать деньги в развитие своих поместий. Яркий пример – мои полученные имения.
И ещё одно «но». На фоне стабильно низкой доходности поместий последние двадцать лет стабильно росла стоимость земли. До реформы её продавали в среднем по европейской части России по 13 рублей за десятину. После неё цена выросла до 20 рублей, а сегодня средняя цена десятины около 90 рублей. Поэтому дворянство нашло великолепный выход: продавать или закладывать свои земли, чтобы вложить полученные деньги в ценные бумаги. Доход от ценных бумаг значительно выше, чем от усадьбы. Особым спросом на сегодняшний момент пользуются государственные и железнодорожные облигации.
Проданные или заложенные поместья скидываются на управляющих, которым ставится одна задача – деньги, деньги и ещё раз деньги, которые необходимы дворянам для городской жизни. К концу прошлого века почти всё дворянство выбрало городскую жизнь. И не только из-за комфорта и доступа к образованию и медицине. Многие из благородного сословия не могли вести достойную для дворянина жизнь за счёт доходов с поместья и поступали на государственную службу, в родовые усадьбы они приезжали только в отпуск.
Таким образом, на настоящий момент мы имеем замкнутый круг. Больше семидесяти процентов крестьян не имеют достаточного количества земли, чтобы выбраться из бедности, увеличить урожайность и производительность. Из-за этого выпадают из потребительского рынка. Стране в то же время требуется индустриализация, но для этого необходимы ресурсы и люди, которых нет.
И всё упирается в земельный вопрос, а сейчас к нему добавился ещё один – голод. Тот самый голод, который исторически присущ России с древних времён. Большой голод происходит примерно раз в десять лет и уносит сотни тысяч, а порой миллионы жизней. Причины неурожаев те же, что и сейчас: засуха, избыток дождей, ранние морозы, саранча, суховеи и так далее.
Самый масштабный голод прошлого столетия в 1891–1892 годах охватил семнадцать губерний с населением тридцать шесть миллионов человек, умерло от него, по официальным данным, чуть больше четырёхсот тысяч человек. По данным Струве, около двух с половиной миллионов. Причина такого расхождения в цифрах проста – официальная статистика считает лишь взрослых и только русских наций: русских, украинцев и белорусов, инородцы и некрещёные вообще не учитываются.
С начала XX века голодные годы пошли один за другим. В зиму 1900/1901 годов голодало по официальным данным 42 миллиона человек, умерло же в результате данного голода 2 миллиона 813 тысяч душ. Опять же по данным Струве, который учитывал не только православных взрослых.
Голодными были и 1902, и 1903 годы, из-за чего начались крестьянские бунты. Так, для подавления крестьянских восстаний только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано двести тысяч регулярных войск, не считая десятков тысяч жандармов, казаков и полицейских. И это в тот момент, когда мы готовились к войне с Японией, где на театре военных действий будет задействовано меньше воинских частей, чем при подавлении бунтов.
Да и сейчас ситуация не лучше. По прогнозам, следующий год будет неурожайным как минимум в двадцати двух губерниях, в том числе в четырёх нечернозёмных: Псковской, Новгородской, Витебской, Костромской. А магазины продовольственной помощи практически полностью пусты.
Действующая система продовольственной помощи начала развиваться ещё в царствование Екатерины II, а в её современном виде была учреждена при крепостном праве в 1834 году. Базовым принципом системы является накопление за счёт взносов крестьянами продовольственных и денежных запасов, которые выдавались крестьянам же в ссуду в случае неурожая.
В волостях и крупных сёлах находились сельские запасные магазины-склады, нормативный размер которых составлял: четверть пшеницы или ржи, соответственно 154 и 102 килограмма; и ½ четверти овса или ячменя, соответственно 45 и 63 килограмма на одну ревизскую душу. Так как ревизиями учитывались только мужчины, а последняя ревизия была проведена в 1858 году, то условные 21 миллион ревизских душ в губерниях, охваченных продовольственной системой, соответствовали спустя сорок пять лет реальным 43 миллионам.
Таким образом, расчётные нормативные запасы для середины девятнадцатого века сейчас составляли в среднем 6 пудов, или 98 килограммов зерна на одну реальную «ревизионную» душу, без учёта членов его семьи. К 1891 году в Европейской России было девяносто пять тысяч запасных магазинов, а сельское население приближалось к ста миллионам, увеличившись почти в два раза по отношению к 1858 году.
Осенью 1891 года правительство решило проверить реальное наличие запасов в системе продовольственной помощи. Результаты оказались пугающими, точнее, устрашающими. В пятидесяти губерниях Европейской России налицо оказалось только 30,5% от нормативного запаса зерна; в 16 пострадавших от неурожая губерниях ситуация была ещё хуже – там имелось только 14,2% от нормы. В Казанской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Тульской губерниях имелось менее 5% от нормы, то есть общественные сельские магазины были почти пусты.
И через тринадцать лет картина не улучшилась, а даже ухудшилась. Проблема заключалась в том, что за состоянием запасов не было надлежащего контроля. Крестьяне охотно брали хлебные ссуды из местных продовольственных магазинов и неохотно их отдавали. Система работала в одну сторону – однажды занятое было очень сложно вернуть. Ещё хуже было то, что статистика о натуральных запасах на нижнем уровне в общественных продовольственных магазинах постепенно всё глубже и глубже фальсифицировалась.
Целый ряд причин: плохой урожай предыдущих трех лет, так и не налаженная система контроля и возврата ссуд, безответственность крестьянских обществ, застойная бедность хозяйства привели к тому, что предусмотренные законом запасы к моменту возможного крупнейшего неурожая в 1905 году отсутствовали.
Широкомасштабная кампания продовольственной помощи, которая теоретически могла бы большей частью опираться на местные сельские запасы, теперь была возможна только за счёт крупных централизованных закупок и государственных субсидий.
Кстати, Столыпин, которого два года назад назначили саратовским губернатором, добился того, что магазины в губернии были заполнены больше чем на пятьдесят процентов. Правда, для выбивания долгов из крестьян пришлось привлекать казачьи части и полицию. Натуральная продразверстка получилась в отдельно взятой области, тьфу, губернии.
Но основным поставщиком зерна и денежных средств в запасные магазины у Столыпина стали колхозы. Столыпин и Струве за время работы над аграрной реформой пришли к выводу, что наиболее эффективным решением крестьянской проблемы являются коллективные хозяйства с государственной поддержкой в виде плуговых артелей и другой техники, что-то типа МТС в СССР, и гарантированной закупкой зерна по фиксированным ценам. По такому типу были организованы хозяйства в моих двух имениях, которые, кстати, Столыпин пару раз посетил, так же как и Струве.
До этого Пётр Аркадьевич считал, что естественным противовесом общинному началу является единоличная собственность. Она же служит залогом порядка, так как мелкий собственник представляет собой ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве.
Он считал, что если дать выход инициативе лучших сил деревни в виде отдельного земельного участка, вырезанного из государственных земель, или из земельного фонда Крестьянского банка, обеспеченного наличностью воды и другими насущными условиями культурного землепользования, то наряду с общиной появился бы самостоятельный зажиточный поселянин, устойчивый и крепкий представитель земли.
Первоначально аграрная реформа Столыпина предполагала передачу надельных земель в собственность крестьян, постепенное упразднение сельской общины как коллективного собственника земель, широкое кредитование крестьян, скупка помещичьих земель для перепродажи крестьянам на льготных условиях, землеустройство, позволяющее оптимизировать крестьянское хозяйство за счёт ликвидации чересполосицы.
Но в Гродненской губернии, где было решено первоначально проводить эксперимент, губернии с развитым сельским хозяйством, Столыпин и Струве столкнулись с нежеланием крестьян следовать новым технологиям и выходить из общины, несмотря на «земельную тесноту».
Большинство крестьянских общин всё ещё широко практиковали зелёный пар, то есть использование поля под паром как общего пастбища до начала посева озимых. Они сажали яровые культуры, не поднимая зябь – без вспашки поля поздно осенью под посев весной; не выполняли двоения – повторной пахоты в середине лета. Большинство крестьян не были знакомы с рядным сеянием и не сортировали семена для посева. В крестьянском обиходе эффективные плуги ещё не успели заменить примитивную соху.
Крестьяне уделяли мало внимания картофелю, дающему больший урожай с единицы площади при чуть больших трудозатратах; не сеяли кормовые травы и не культивировали кормовые корнеплоды. Так как площадь пашни постоянно увеличивалась за счёт лугов, в крестьянских хозяйствах на десятину пахотного поля приходилось всё меньше навоза – единственного доступного на тот момент для крестьянина удобрения.
Все эти агротехнологии к началу ХХ века уже широко применялись в успешных помещичьих хозяйствах. Урожайность помещичьих полей, в подавляющем большинстве также имевших трёхпольный севооборот, на тот момент в среднем была на пятьдесят-семьдесят процентов выше, чем крестьянских. На образцовых опытных полях агрономических станций при использовании многопольных севооборота, травосеяния и прочих новых технологий удавалось собирать урожай в два-три раза выше крестьянского.
По оценке Столыпина, крестьянские хозяйства только за счёт улучшения обработки земли, без перехода на улучшенные севообороты и без использования минеральных удобрений, имели возможность поднять урожайность на пятьдесят процентов.
Но, несмотря на очевидные успехи агрономии, крестьянские общины продолжали придерживаться неэффективных технологий. Причины этого явления были многообразны. Прежде всего, крестьяне в своём большинстве не только не имели даже начального образования, но и были неграмотны. Результатами неграмотности были косность, боязнь изменений, плохая информированность. Крестьяне были просто не способны ни прочитать агрономическую книгу, ни понять соображения агронома, например, о дефиците фосфора или калия как причине неурожая.
Второй причиной стало хроническое недофинансирование крестьянского хозяйства, отсутствие у крестьян надлежащих товарных запасов и оборотных средств. К примеру, многие крестьяне хотели купить усовершенствованные сельскохозяйственные орудия или породистый скот, но не имели возможности это сделать из-за нехватки денег и отсутствия доступа к кредиту. Эта проблема имела тенденцию усугубляться – чем более увеличивалось сельское население, тем более мельчали хозяйства, становясь всё слабее в финансовом отношении.
Основным препятствием к прогрессу сельского хозяйства, если не считать малоземельность, и Столыпин, и Струве считали саму крестьянскую общину с её тремя базовыми недостатками.
Первый: общины практиковали чересполосную обработку земли, надел каждого крестьянина состоял обычно из двадцати-тридцати узких полосок в разных полях. Крестьяне затрачивали много времени и сил на перемещения от одной полоски к другой, значительная часть земли пропадала под межами. Второй недостаток – это регулярные переделы-перераспределения земельных участков между домохозяйствами пропорционально изменившемуся размеру семей. Риск потерять конкретный участок при переделе лишал крестьян стимула к долговременному повышению качества почвы. Третий недостаток заключался в том, что при чересполосном владении севообороты всех пользователей полосок на одном поле были синхронизированы: поле под паром превращалось в общественное пастбище, что исключало возможность посева на отдельной полоске в собственном порядке. Соответственно, даже те крестьяне, которые желали перейти на улучшенные севообороты, не имели возможности сделать это в рамках общины.
Намучившись в первый год с общинами и с созданием единоличных хозяйств, которые на практике не дали быстрого результата, Столыпин, которого перевели в Саратовскую губернию, решил обратиться к казённым крестьянам и на базе казённых земель создать коллективные хозяйства, больше похожие на совхозы в СССР.
Когда Пётр Аркадьевич приезжал в мои имения, то их управляющий Сазонов подробно рассказал, как создавался на моих и принадлежащих крестьянским общинам землях наш колхоз. Столыпин решил повторить этот опыт с небольшими модернизациями на казённых землях.
Берётся «незаселенная» государственная земля и сдаётся в аренду крестьянам из расчёта десять-пятнадцать десятин. Все наделы объединяются в единое земельное хозяйство.
Дополнительно каждый двор – ревизорская душа получает пятнадцать соток под дом с хозпостройками и огородом, плюс пятнадцать соток для индивидуального хозяйства, в основном под картофель. На постройку дома, закупку инвентаря, живности в виде коровы, пяти овец, кур, на семена картофеля даётся долгосрочный кредит под небольшой процент.
Под выпас выделяются земли с водой и лугами. Пашут землю плужные артели, обслуживающие три-пять колхозов. Один агротехник при артели на эти же три-пять коллективных хозяйств определяет разработку производственных планов, видов и количества посадочных культур, методы возделывания полевых, садовых и огородных культур и прочее, прочее, прочее. Все сельскохозяйственные работы в колхозах ведутся по указанию агронома, даже на собственных участках.
Кроме пашни под зерновые, в зависимости от имеющихся условий, в отдельных коллективных хозяйствах выращивались картофель, свёкла, репа, организовывались рыбные пруды для разведения сазана и карася.
Полученный урожай зерна сдавали по фиксированным ценам в земские магазины-склады, погашая выданные кредиты и оброк-налог за арендованную землю в размере десяти-пятнадцати рублей со двора. Кроме того, колхозники были обязаны вносить деньги на земские нужды и отбывать натуральные повинности: дорожную, подводную, постойную и другие. За исправное несение повинностей колхозники отвечали круговой порукой.



