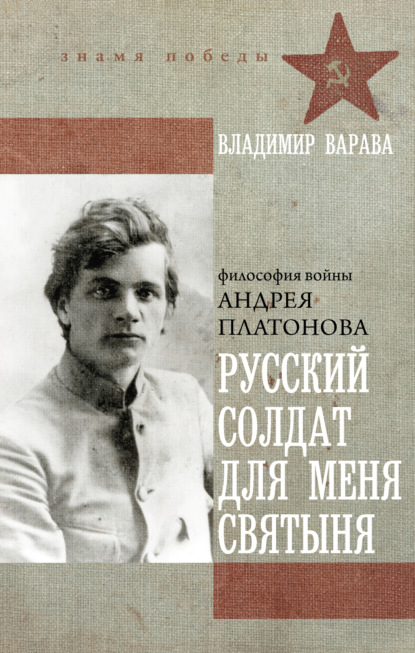
Полная версия:
Русский солдат для меня святыня
«Вощев почувствовал стыд и энергию – он захотел немедленно открыть всеобщий, долгий смысл жизни, чтобы жить впереди детей, быстрее их смуглых ног, наполненных твердой нежностью»[24].
«Всеобщий, долгий смысл жизни» – явное нарушение канона рационалистической философии в сторону нравственного абсолюта. Дети, как животные и святые, безгрешны. Они не мучаются вопросами о смысле, а живут уже в райском состоянии, единственно возможном для них в земной реальности. Взрослые же, которые «яблока вкусили», обречены на эту муку поиска смысла, вне которого жизнь не может быть ни подлинной, ни счастливой. Но смысл не обретается, последний высший смысл постоянно ускользает, оставляя лишь радостную, но смутную надежду. Это характерно и для традиций русской философии, и для Платонова.
Про этого героя повести автор говорит следующее:
«В увольнительном документе ему написали, что он устраняется с производства вследствие роста слабосильности в нем и задумчивости среди общего темпа труда»[25].
Ироничное понятие «задумчивый» в действительности показывает глубину и основательность смысложизненной рефлексии, если она может повлиять на физиологические и социальные процессы. Это подтверждает мысль о приоритете духовного начала в человеке, утверждая правоту известных слов о духовной жажде, которой томим человек. Насыщаема ли эта жажда? Чем ее можно насытить? Не будет ли это бездумным пресыщением, в котором умирают живые начала души?
И еще такие показательные слова:
«Вощев согласен был и не иметь смысла существования, но желал хотя бы наблюдать его в веществе тела другого, ближнего человека,– и, чтобы находиться вблизи того человека, мог пожертвовать на труд всё своё слабое тело, истомленное мыслью и бессмысленностью»[26].
Эта истомленность бессмысленностью, невозможность существовать без истины и смысла есть очень русское свойство. Платонов ничего не преувеличил, но дал очень реалистичную, гораздо более реалистичную, чем социалистический реализм, картину угнетенного человека, но угнетенного не социальной несправедливостью, а гораздо большим – онтологическим несчастьем мира, его бытийной сиротливостью. И такие поразительнейшие строки, наполненные неизбывной скорбью, которая, однако, не превращается в отрешенность и последнее опустошение, но в высшую сострадательность:
«Вскоре он почувствовал сомнение в своей жизни и слабость тела без истины,– он не мог долго ступать по дороге и сел на край канавы, не зная точного устройства всего мира и того, куда надо стремиться. Истомившись скудным размышлением, Вощев склонился и лег в пыльные, проезжие травы; было жарко, дул дневной ветер, и где-то кричали петухи на деревне,– всё предавалось безответному существованию, один Вощев отделился и молчал. Умерший, палый лист лежал рядом с головою Вощева, его принес ветер с дальнего дерева, и теперь этому листу предстояло смирение в земле. Вощев подобрал отсохший лист и спрятал его в тайное отделение мешка, где он сберегал всякие предметы несчастья и безвестности. „Ты не имел смысла житья,– со скупостью сочувствия полагал Вощев,– лежи здесь, я узнаю, за что ты жил и погиб. Раз ты никому не нужен и валяешься среди всего мира, то я тебя буду хранить и помнить“»[27].
Кажется, что это предел, до которого может дойти человек. Что ему еще остается делать? В романе «Чевенгур» формулируется в предельной остроте реальное положение: «хотя никто не в силах сформулировать твердый и вечный смысл жизни…». Поиск не гарантирует нахождения, и сам поиск смысла жизни во многом является этим смыслом, заканчивающимся состраданием к умершему листу – этому символу безвестной, несчастной и ненужной жизни. Смирился искатель смысла с невозможностью найти истину и смысл, с невозможностью узнать, как устроен мир, и стал в надежде на будущее разрешение всей этой мировой загадки собирать по сути дела прах мира, видя в нем не хлам, но живое начало, достойное сочувствия.
А в рассказе «Житель родного города» представлена если и не альтернатива этому непрестанному, доводящему до отчаяния поиску смысла жизни, то очевидно иной вариант жизненного исхода. Девяностосемилетний сторож Артемий Дмитриевич Дежкин, «понимая свое положение» слишком старого человека, изрекает слова, достойные выражения глубинной нравственной мудрости русского народа:
«Великие годы живу, почва уж на теле растет. А жить всё одно надо: живётся!»[28]
Невероятные, потрясающие слова! Никакого ропота, никакого стенания, никакого заунывного сожаления об ушедшей молодости и прошедшей жизни. Только скромное и смиренное принятие жизни в своей данности. И что здесь особенно важно: он не говорит «хочется жить», он говорит «надо жить», потому что «живётся». Вот в этом «живётся» заключен глубинный смысложизненный мотив. Живётся и поэтому надо, живи и не спрашивай, не допрашивай ни жизнь, ни Бога, ни людей. Это самосущий мотив – не для чего. Живи, потому что это дар. И поэтому живи и всё, так «надо», это нравственная обязанность, долг перед дарителем жизни. И весьма скверно спрашивать дарящего, зачем дар, не принимать его или вообще отвергать.
О каком унынии, отчаянии, разочаровании можно здесь говорить! О какой эвтаназии, самоубийстве, слабоумии и прочих патологиях, в которых погряз западный, морально ничтожный и духовно больной человек, к старости достигающий не мудрости, а потери ума, слабоумия. Этот герой Платонова, престарелый сторож, тоже житель его родного города Воронежа, почти истреблённого фашистами, показывает нравственное принятие жизни как дара и держание этой жизни, терпение всего, что в жизни, – не только радости, но и страданий, горя, несчастий, бедствий. И вот, несмотря ни на что, сказать «живётся» в девяносто семь лет – это высочайший христианский подвиг.
В этом «живётся» скрыт тот тайный смысл, который никогда нельзя раскрыть и представить в виде какой-то формулы, правила, заповеди. Он есть, ощущается сердечно, и этого достаточно для человека, чтобы жить и быть счастливым, но счастливым по-настоящему, как счастливы дети и святые. И возможно невинные животные, которым человек в лучшие минуты всегда завидует белой завистью и очень сострадает их мукам.
Это и есть та любовь к жизни, которая выше рассудка, о которой говорит Достоевский в известном диалоге Ивана и Алёши Карамазовых:
«Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь… Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алёшка, аль нет? – засмеялся вдруг Иван.
– Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить – прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, – воскликнул Алеша. – Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить.
– Жизнь полюбить больше, чем смысл её?
– Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму».
И это традиция сверхлогического, сверхрационального постижения жизни: сначала любовь и лишь потом смысл. Без любви, то есть сочувственного принятия жизни как дара, никогда не откроется её смысл.
Платонов показывает, что это бесконечное кружение мысли в поисках смысла, в котором надежда сменяется разочарованием и тоской, переходящей в отчаяние, в котором вновь появляется надежда, может продолжаться бесконечно. И он, конечно, разочаровался, но не в коммунизме, а в рациональном познании, в его претензиях познать и понять всё. И довоенный Вощев из «Котлована», и послевоенный Дежкин – это и есть Платонов, которому сердечный смысл Достоевского бесконечно ближе всех рациональных конструктов и проектов.
И этот сердечный смысл жизни открывается или как благодать, или как великое событие, трагическое испытание. Этого события всегда ждут. Ждут как Бога и смерть, ждут как чудо любви и новое рождение. И одновременно боятся, а вдруг пронесёт… Что-то ведь да значат эти слова: «Если возможно, да минует Меня чаша сия». Вполне по-человечески понятное желание избежать страдания, уйти от тяжких испытаний и пожить просто, спокойно, добродетельно, но без этих голгофских страстей. Но, увы, так почему-то не бывает; совсем без страданий и испытаний человеку быть нельзя. И тогда приходит смиренномудрое принятие судьбы: «впрочем, не как Я хочу, но как Ты».
* * *Наступила Великая Отечественная война – для русского советского народа самое страшное и трагическое событие в его истории. Война, поставившая под сомнение многие идеи и ценности довоенной жизни. И не только поставившая их под сомнение, но разрушившая многое, что казалось незыблемым. Великое испытание коснулось всех и всего, коснулось оно и главного вопроса – вопроса о смысле жизни, который не исчез, но зазвучал по-новому, страшно, пронзительно, смертельно, но радостно и обнадеживающе.
В автобиографическом рассказе «Афродита», который был написан в 1943 году, когда война уже перевернула мир довоенного бытия, совершила серьёзнейшую переоценку ценностей, Платонов ретроспективно формулирует смысложизненное кредо, переосмысливая свой довоенный жизненный поиск. То, что до войны могло казаться ему неясным и сомнительным, с высоты трагического 1943-го уже представляется ему совершенно определённым. Он ещё раз подтверждает правильность своего избранного пути, когда его «воодушевила вера в смысл жизни рабочего класса», которая дала ему великую возможность «жить всем дыханием человечества». Уже опаленный страшным горем войны, герой рассказа, он же и сам автор, приходит к такому пониманию:
«Одному человеку нельзя понять смысла и цели своего существования. Когда же он приникает к народу, родившему его, и через него к природе и миру, к прошлому времени и будущей надежде,– тогда для души его открывается тот сокровенный источник, из которого должен питаться человек, чтобы иметь неистощимую силу для своего деяния и крепость веры в необходимость своей жизни»[29].
Эта необходимость своей личной жизни легитимизирована всей историософией русского существования, которая в советском строе достигла своей наивысшей промыслительной сущности.
«Советская Россия тогда только начала свою судьбу. Народ направился в великий, безвозвратный путь – в то историческое будущее, куда ещё никто впереди него не шествовал: он пожелал найти исполнение всех своих надежд, добыть в труде и подвигах вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделиться ими с другими народами…»
И это говорится о том времени, когда его бытийная тоска достигала невероятных экклезиастовских высот отчаяния в «Котловане» и «Чевенгуре» от бессмысленности существования. Война это прекратила, озарив всю эту беспросветную тоску ярким пламенем сверхтрагичной, но подлинной жизни, в свете которой стало ясно, что Россия отправилась покорять новую нравственную Антарктику и осваивать неведомые нравственные бездны космоса. И важно то, что война против России была развязана теми, кто не хотел, чтобы она в труде и подвигах добыла вечные ценности и достоинство человеческой жизни и поделилась ими с другими народами.
Может, и не зря маялся и скитался в своей бесприютности Платонов всё это довоенное время, чувствуя, что всё-таки не хватает чего-то главного в жизни, которого не было в этом бурном периоде создания нового мира.
Одухотворение
Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней есть радость.
«Офицер и солдат»Сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворённые люди.
«Одухотворённые люди»Великая Отечественная война поставила вопрос о смысле жизни самым радикальным и жёстким образом. Платонов говорит о назначении литературы военного времени как о нравственном задании. Можно заметить, как в произведениях военного периода метафизическая проблема смысла жизни уступает конкретно-практической, более ясной и определенной. Литература как свободное творчество усваивает новые задачи, продиктованные обстоятельствами, которые пришлось испытать народу.
Вопрос о смысле жизни приобретает здесь одновременно и высокодуховный, и конкретно-практический, то есть всеобъемлющий характер. На первом месте духовный, идейный смысл жизни, без которого невозможна победа. «А без смысла на войне нельзя»,– говорит Иван Владыко из рассказа «Иван Великий», выражая самую суть этого вопроса. Отсутствие смысла на поле боя равнозначно гибели. Сам писатель в записной книжке за 1941–1942 годы напишет, что солдату нужно главное. Нужна, конечно, выправка, каша, печь, ночлег, но более всего – главное. И это главное понятно и без слов; если оно есть, то и солдат есть, иначе он не может.
Человеку как существу суетливо-греховному свойственно забывать о главном, лукаво прятаться от него, уходить в мелочные заботы. И совесть не всегда может достучаться до него. А вот на войне всё по-другому: главное и есть тот смысл, без которого ни жить, ни воевать невозможно. На военном языке это означает потерю боевого духа, потерю мотивации. Боец должен быть постоянно в приподнятом боевом настроении, но не искусственно созданном, а возникающем из глубокого осознания своей нравственной миссии – защиты и спасения Отечества, что уже на высшем этическом уровне означает извечную битву добра и зла.
Метафизика смысла жизни мирного времени в военное время трансформируется в этику смысла жизни. Эта трансформация смысла от метафизики к этике также означает, что смысл – это не роскошь, которую можно иметь, а можно и не иметь в мирное время. Смысл – это жизненная необходимость, ради него идут воевать и умирать за него. Трофимов, солдат из рассказа «Божье дерево»:
«Не хотел зря жить и томиться; он любил, чтоб от его жизни был смысл, равно как от доброй земли бывает урожай. Он сел на холодный пол и затих против дубовой двери в ожидании врага».
«Зря жить» теперь нельзя; война поставила вопрос радикально: жизнь должна иметь смысл, а иначе воевать за неё нельзя. За пустую и бессмысленную жизнь не совершишь жертвы и подвига. И война открывает этот высший смысл жизни, за который люди воюют и умирают. В мирной жизни люди настроены не умирать за жизнь, но созидать жизнь. И смысл мирной жизни в созидательном труде – великом, одухотворяющем, окрыляющем. Но трагический парадокс жизни в том, что мирная жизнь не может длиться вечно. Её великие созидательные смыслы, как и все в мире, кончаются, как бы имея свой срок годности. И тогда нужны новые смыслы. Если их не находят, то народ погружается в растление, распущенность, апатию, бессмысленность, в извращения и патологии, в самоистребление. И тогда приходит война, в потаенных глубинах которой содержится смысл, утраченный в мирное беззаботное время.
В рассказе «Одухотворённые люди» дан пример подлинного смысла, без которого нельзя на войне. Но нельзя без него и в мирной жизни. Этот смысл – одухотворение. Именно в нем на войне нуждается человек более всего. Командир перед сражением обращается к бойцам:
«Товарищи! Наша разведка открыла командованию замысел врага. Сегодня немцы пойдут на штурм Севастополя. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни, сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворённые люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши – только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером! Мы их раскрошим, мы протараним отродье тирана! – воскликнул воодушевленный, сияющий силой Николай Фильченко».
Смысл жизни в том, чтобы показать врагу свою одухотворенность, то есть подлинную человечность. И вот этот смысл жизни, который открывается на поле боя, и есть самый настоящий смысл. Именно в этой предельно опасной смертельной ситуации раскрывается главная истина о человеке – о том, что он духовное, прежде всего, существо, способное на высший подвиг и высшую жертвенность. Только духовность делает человека человеком, что также является нравственной ценностью русского народа. Эта русская одухотворенность противостоит «пустодушию» фашистов – в предельно точном слове Платонова.
И далее следует важнейший фрагмент, где дается описание приготовления к бою. В нём предельная концентрация нравственных смыслов жизни, которые трагическим и парадоксальным образом раскрываются на войне.
«С успокоенным, удовлетворенным сердцем осмотрел себя, приготовился к бою и стал на своё место каждый краснофлотец. У них было сейчас мирно и хорошо на душе; они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни – на то, что разрушает и что создает её, – на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречён той же участи, превозмогала страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать её обратно правде, земле и народу, – отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей; если же они не сумеют сейчас превозмочь врага, если они погибнут, не победив его, то на свете ничто не изменится после них, и участью народа, участью человечества будет смерть».
В этом отрывке невероятная плотность смыслов, истинное значение подвига – отдать жизнь, вернуть её обратно, чтобы увеличить смысл существования людей. Святая цель. Снова смысл, но уже несколько иной, чем в довоенное время. Здесь смысл то, за что проливают кровь. И «пустое наслаждение» – бич мирной жизни – враг и противоположность этой жизни-подвига. И как особенно сегодня культивировано наслаждение, жизнь в своё удовольствие. Это, согласно Платонову и согласно большинству чистых и мудрых русских людей, уничтожение жизни. Не для этого рожден человек. И если в мирное время это непонятно, то война всё ставит на свои места – быстро, решительно и жёстко.
Победа или смерть – таков девиз русского солдата, который одухотворен высшим смыслом своего дела. «Смысл жизни» перестает быть абстрактно-теоретической категорией, характерной для рационалистической философии; смысл жизни становится такой же нравственной ценностью, как и счастье, как счастье существовать, существовать по-русски: скромно, смиренно, достойно:
«Здесь одним движением можно было решить, чему быть на земле – смыслу и счастью жизни или вечному отчаянию, разлуке и погибели».
Без счастья нет смысла, а без смысла нет счастья — такова формула жизни одухотворённых людей, идущих воевать за счастье и смысл своего народа. Это на бесконечность отстоит от того гедонистического рыночно-либерального счастья, которым живут люди вне одухотворённости смыслом. Против такого мелкого счастья выступали и Ф. М. Достоевский, и Л. Н. Толстой, и Н. Ф. Федоров, и К. Н. Леонтьев, и А. И. Герцен, и Н. А. Бердяев, и множество выдающихся представителей русской культуры. Выступает и Платонов, продолжая отечественную традицию духовного поиска.
Один очень важный момент, о который может споткнуться современное либерализованное сознание. Командир говорит, что мы, русские советские солдаты, «одухотворены Лениным и Сталиным», в то время как наши враги фашисты испытывают страх перед «тираном Гитлером». Здесь, прежде всего, однозначное и радикальное противостояние Ленина и Сталина – Гитлеру, противостояние, которое не дает никакого права современным очернителям советского прошлого их уравнивать, отождествляя коммунизм и фашизм. Это не просто ошибка, это предательство всех тех, кто пролил свою кровь под этими именами.
И, кроме того, важно понять, что значил Ленин для советских людей, и в годы революции, и особенно в годы Великой Отечественной войны. Раненый боец из рассказа «Полотняная рубаха» вспоминает свою довоенную жизнь, когда он в детстве потерял мать и остался один в чужом и холодном мире, и кем тогда для него стал Ленин:
«Ленин для меня, круглого сироты, стал отцом и матерью, я почувствовал издалека, что я нужен ему, – это я, который никому был не нужен и заброшен, – и отдал ему всё свое сердце, отдал навсегда – до могилы и после могилы. <…> Если ты хочешь знать, в Ленине для меня будто снова воскресла мать, и для меня он больше, чем мать, – ведь мать была только несчастной женщиной, мученицей, умершей в рабстве, а Ленин! – знаешь ли ты, кем был и есть Ленин?»
Циник посмеется над такой наивностью советского человека, упрекнёт его в чрезмерной идеализации, раболепии, свалив вину на «тоталитарное» государство. А в действительности – это невинность и чистота, детскость русского человека, способного не на идеализацию, а на одухотворение. Этот человек видит в Ленине святого, способного воскрешать умерших. И это не невинность, это сила веры, преданность идеалам абсолютного добра, которые воплотились в образе Ленина.
Если до войны имя Ленина давало силы жить и творить, то на войне – умирать за родину. Этот боец рассказал, что после смерти матери у него осталась её нательная рубаха, которую она отдала ему, чтобы ему не было страшно и скучно, когда она уходила на работу. И он хранит эту почти истлевшую рубаху своей «бедной, мёртвой, вечной» матери, которая бережёт его по жизни. Сберегла она его и на поле боя:
«Во время войны я хранил материнскую рубаху у себя на груди, за пазухой; сейчас только она у меня под подушкой… Ты вот не знаешь, ты не поймешь, как легко бывает умереть, как умираешь с жадностью и с ясной мыслью, когда идешь на смерть под знаменем родины, и родина эта живет в твоём сердце, как истина, как Ленин, и ты прижимаешь её к себе, как бедную рубаху дорогой матери…»
Насколько это трогательно, трогательно и высоко приравнять Ленина и материнскую рубаху, два оберега, две самые дорогие и святые вещи, в которых как и истина живет родина, с которыми наши солдаты шли на смерть и одержали победу!
Вот еще пример одухотворения из рассказа «Офицер и солдат»:
«Артемов недавно прочитал в газете, что война есть исступление, и улыбнулся над ошибочностью этой мысли. Он знал, что война, как и мир, одухотворяется счастьем и в ней есть радость, и он сам испытывал радость войны, счастье уничтожения зла, и ещё испытает их, и ради того он живет на войне и другие люди живут».
Трактовка войны как исступления или как коллективной агрессии – все это трактовки, родившиеся в контексте западной культуры – пацифизма, психоанализа и проч. Русскому солдату открывается совсем иной духовный смысл войны, который даже в этом наиболее драматическом и тёмном событии может видеть свет. И этот свет в том, чтобы разгонять тьму и зло, которые несёт враг.
А враг не имеет этого смысла и света, он не одухотворён, и в этом причина его поражения. Из очерка «На могилах русских солдат»:
«Именно отсутствие истинного, одухотворённого воина в рядах германской армии является одной из причин поражения фашистской армии».
Платонов, пройдя через войну, приобрел огромный опыт сравнения русского и немецкого солдата. Известно, что он тщательно исследовал психологию немцев как врагов, изучал их переписку со своими близкими, беседовал с военнопленными, в результате такой вывод – отсутствие одухотворённого воина.
Ещё одним важным одухотворяющим смыслом у Платонова, открывающимся на войне, является борьба со смертью. Это максимальный, предельно концентрированный смысл жизни. Именно на войне и происходит отвоёвывание жизни для мира. Это трагический парадокс, но не самой войны, а жизни, в которой есть война и для которой нужна война, чтобы быть.
Вообще, идея борьбы со смертью как с главным врагом человека является для Платонова определяющей, проходящей через все периоды его творчества. Уже в ранней публицистике со страстью строителя новой жизни Платонов раскрывает свои планы и мечты:
«О великом пути знания, пройденном человечеством, и о пути, который предстоит ему пройти, о мышлении, истине и заблуждениях, о страданиях человечества в поисках правды своей жизни, о борьбе и гибели за найденную правду, о затаенной страстной мечте, о конечной победе над своими врагами – природой и смертью, – я напишу в другой раз, как обдумаю».
В ранней публицистике, с которой Платонов дебютировал как журналист, содержатся все главные философемы его мышления, которые он пронесёт через всю жизнь. Главная – восприятие смерти как врага, как главной угрозы человеку, устранить которую предполагается с помощью науки и техники. И в этом смысл нового социалистического строя – освобождения человека от архаики прошлых эпох, в которой все социальные «прелести» буржуазного строя, капитализма с его хищничеством, а также природные опасности, которые несут её слепые, хаотические силы, главная из которых – смерть. Борьбе с ними и посвящены самые пламенные строки Платонова.
В программной статье «Культура пролетариата» (1920) находим следующее:



