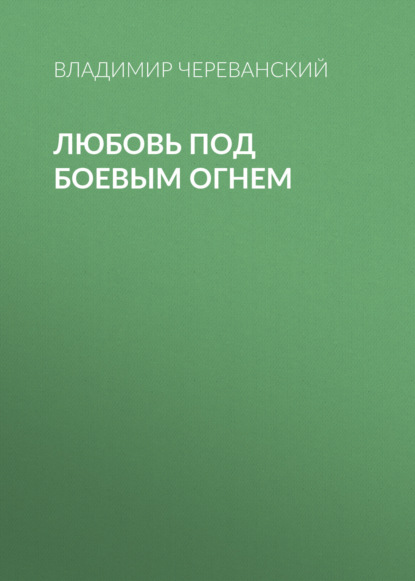 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
– За исключением домашнего расхода и больных, для отряда вторжения готово семь тысяч семьсот человек, не считая обозных и транспортных, – отвечал Баранок, всегда переполненный штабными сведениями.
– Только-то!
– Впереди ожидается из Туркестана вспомогательная колонна Куропаткина.
– И все-таки мало.
– Восемьдесят орудий…
– Вот это хорошая цифра! И если бы мне Провидение послало верблюдов и еще верблюдов… а впрочем, я могу порадовать вас и тем, что наша персидская продовольственная операция идет очень успешно. Там никто не отказался от подкупа. Будем же готовы к немедленному передвижению в Дуз-Олум. Доктор, давайте мне пилюль побольше, микстуры… пластырей, горчичников… чего хотите, но только поставьте меня скорее на ноги.
VIIСагиб – так именовался полковник Гр-ков, которому командующий поручил устройство персидской продовольственной базы – занялся своею операциею в Мешеде, откуда нетрудно было направить караваны с хлебом на границы Теке. Хорошо знакомый с порядками и обычаями Ирана, он предвидел, что британские агенты выступят против него со всевозможным противодействием и что ему придется удовлетворять аппетиты господ ильхани всех степеней. Впрочем, наиболее сильное сопротивление он ожидал со стороны духовенства, не раз поднимавшего народные массы даже против тегеранских канцелярий.
Духовенство Мешеда занимает почетнейшее положение в той части правоверного мира, которая почитает имамат одним из основных догматов веры и отрицает за предопределением Аллаха влияние на ход людских дел. Два эти положения вносят коренную рознь между учениями Ши’э и Сунни. Проходят века, а рознь не сглаживается, и благодаря мюджтехидам, не расположенным поступиться имаматом, братья по пророку ненавидят друг друга сильнее, чем они ненавидят христиан и евреев.
Мюджтехиды Мешеда рассылают свои фетвы по догматическим вопросам всем последователям пророка, идущим по истинному пути. Будучи служителями знаменитой мечети Имамистериза, они преподают вместе с тем и общие науки в главном медресе, достойно почитаемом за высшую академию Ирана.
Медресе содержится вместе с мечетью Имамистериза за счет вакуфов, пожертвованных благонамеренными людьми для пользы веры и просвещения. Здание его занимает громадную площадь, обнесенную беспрерывным рядом студенческих келий. Посредине двора помещается хауз с проточной водою для омовения, обведенный аллеями из вековых карагачей и чинаров. Везде видны цветники как слабое напоминание о дженнете, привлекающем к себе все помыслы правоверных.
Кельи походят одна на другую. Разница между ними допускается только в надписях, свидетельствующих о душевном и умственном настроении студентов. Разумеется, в каждой келье видны на стенах по преимуществу стихи Корана о единстве Бога, а после них вдохновенные песнопения и сказания знаменитого араба Омар-ибн-эль-Фареза или отечественных поэтов – Аттара, Шибистери, Низами, Фирдоуси, Саади…
Кое-что прямо-таки соблазнительное можно было прочесть и из «Дивана» ходжи Хафиза Ширази. Впрочем, в вольнодумстве этого безбожника одна только форма стиха говорит о реальной наготе жизни, а содержание его всегда возвышенно и таинственно.
Встречались также надписи из гражданского права и из познаний в астрологии, астрономии, космогонии, математики. «Входящий, скажи, что ты знаешь о колесе Аристотеля?» – выведено синькой на стене одной кельи. «Входящий, открой, кто поучал халдеев их премудрости?» – изображено в другой келье суриком по белому полю. Вообще учение Аристотеля и Платона пользуется здесь большим уважением.
Из общежития софтов идут проходы к мечети Имамистериза и в здание аудитории. Неподалеку от последнего находится профессорский городок мюджтехидов. Над фронтоном аудиторий красуется надпись, в которой каждая литера выделана рельефом на отдельном изразце прекрасного лазоревого цвета. В общем, она провозглашает догмат ислама: «Ло ил лохе ил-лаллах» («Нет Бога, кроме Аллаха»). Ниже этой надписи красуется другая, заключающая в себе изречение имама Али: «Чернила ученого столь же достойны уважения, как и кровь мученика».
Громадный коридор, полутемный и всегда прохладный, дающий приют многочисленным гнездам ласточек и горлиц, делит все здание на три факультета: догматический, правоведения и общих познаний. Догматический факультет главенствует не только в медресе, но и во всей области мировоззрений Ши’э. Его мюджтехиды не допускают соперничества в вероучении и в понимании духовного и светского законодательства. В одном только практическом применении пяти догматов веры они допускают участие кази и шейх-уль-ислама с правом вершить дела, не испрашивая их фетвы.
Догматический культ состоит, если можно так выразиться, из пяти кафедр, не считая общей кафедры, преподающей всему медресе историю текста Корана и искусство его чтения.
История текста Корана стоит во главе вероучения, потому что христиане и евреи уверяют, будто он написан Мухаммедом подобно тому, как написаны их святые книги людьми, вдохновенными Богом. Они не знают, что подлинник Корана хранится от начала веков и будет храниться до конца их у престола Аллаха под охраной ангелов, оттесняющих демонов, которые стремятся узнать тайну его содержания. Они не знают, что он изображен на драгоценном камне ослепительной белизны и так велик, как велико расстояние от земли до неба и от востока до запада.
Софты приучают себя целые годы к певучему и выразительному чтению и при этом охотно повторяют суру, которую и сам Мухаммед считал сердцем Корана, ниспосланным ему в Мекке под названием «иа-син». Как велико значение этой суры можно заключить по числу и значению наград, обещанных пророком за одну только ее переписку. Тому, кто перепишет все восемьдесят три стиха «иа-син» и переписанным листком почерпнет глоток воды, чтобы утолить свою жажду, обещано пророком тысяча незримых лекарств, тысяча незримых светов, тысяча ясных познаний и столько же незримых благословений и милостей. В излюбленной суре софты особенно усердно изощряются над следующими стихами:
«В тот день обитатели рая предадутся восторгам радости. В беседе своих супруг они отдохнут в тени, удобно сидя на креслах. У них будут плоды, у них будет все, что они попросят».
Впрочем, ученые бабисты, идущие навстречу христианству, уклоняются от этой суры как от чересчур грубого представления райских утех.
Понятно, что, прежде чем дойти до этой суры, софты изучают во всей подробности достоверное описание рая и знают, что он состоит «…из плодовых деревьев и орошается реками молока и меда. Живущие там одеваются в шелковые зеленого цвета одежды и носят, по желанию, запястья из бирюзы или жемчуга. Самые кресла их украшены золотом и драгоценными камнями, и сверх того у них много мягких ковров и нежных подушек. Кушанья им подают красивые мальчики на золотых блюдах. Черноокие девы, поразительная красота которых исключает необходимость в семи дозволенных пророком украшениях, услаждают взоры мужчин. Девам дженнета не нужны, подобно девам земли, ни краски для бровей, ни румяна для лица, ни кудри на лбу, ни хенне для ног и рук. Но и при всей их красоте и пламенности сердец они разговаривают только об одном благочестии».
Вторая кафедра после истории Корана преподает учение о наследственности имамата и о том презрении, какого достойны сунниты, не признающие преемственность духовной власти. Отвергая этот догмат, грубые сунниты почитают потомков Али только дальними родственниками пророка и избирают своих духовных лиц так же беззаботно, как избирают надзирателей над чистотой грязных арыков. Можно судить поэтому, в каких потемках блуждают их души! Последователи Ши’э, напротив, никогда не простят племенам Аббаси похищение халифата и останутся навсегда верными всем двенадцати имамам, а последнего из них, Мехди, считают и ныне присутствующим во всех своих собраниях.
Факультет правоведения, исходя из повелений Корана, объясняет практическое применение его к обиходу жизни. Первая кафедра его преподает правила брачного союза во всех видах, начиная от временного с невольницей, купленной на капитал двух и более товарищей, и оканчивая постоянным браком со всеми условиями Бикра, Эфифа и Велуда. Вторая кафедра объясняет торговые законы, а третья, также немаловажная, устанавливает истинные понятия о правах собственности.
Слабее всех считается в медресе третий факультет, трактующий астрологию, астрономию, космогонию, физиологию и разные прикладные знания. Несмотря на то что аравитяне почитаются всем миром отцами математики, нынешняя наука в медресе не идет далее сложения и вычитания. Разумеется, лучшие умы и здесь занимаются вопросами: почему, например, большое колесо арбы и маленькая его втулка пробегают в одно и то же время при равном числе оборотов равное расстояние? Много таких вопросов перешло в медресе от времен халдейских мудрецов, хорошо понимавших, что земля держится на месте исключительно тяжестью своих гор и что небо, покрывающее землю точно сводом, никогда не даст ни одной трещины. Астрономия медресе уверяет, что падающие звезды состоят из раскаленных камней, бросаемых ангелами в демонов, стремящихся проникнуть в тайны небесной скрижали. Все прочие кафедры преподают предметы, знание которых необходимо более для светского, нежели для духовного образования, как, например, о разделении вселенной на тела твердые и жидкие, теплые и холодные, легкие и тяжелые. Впрочем, о подразделении занятий и действий человека на виды презренные и уважаемые, запрещаемые и дозволенные необходимо знать каждому правоверному, иначе он будет впадать по пути жизни в серьезные прегрешения. Но и обременяя себя знаниями, необходимо помнить, что мост, ведущий в дженнет, висит над бездной ада и что он острее меча и тоньше волоса.
Софты в этом медресе народ взрослый, украшенный почтенными бородами, а следовательно, и полноправный, чтобы судить о политике и прислушиваться для этого к базарным слухам. Наступали священные дни рождения и смерти Али, когда лекции в медресе прекращаются и софты предаются отдохновению.
Накануне праздника в чайных и цирюльных лавках Мешеда шептались, будто Имамистериз не будет освещена в ночь рождения Али, так как мутевали, собирающие доходы с вакуфа, растратили их и не могут купить необходимое количество свечей. Рядом с этим слухом шел и другой, не менее интересный: в хлебном караван-сарае говорили, будто между русским и английским сагибами завязалась серьезная борьба. Первый выразил желание скупить весь хлеб на базаре, а второй поклялся мешать ему на каждом шагу.
Сам русский сагиб не заглядывал по своей важности в караван-сарай, но его приказчик объявлял во всеуслышание, что он купит всю муку, пшеницу и ячмень, сколько найдет этого товара в пятницу по окончании службы в Имамистеризе. По его следам ходил английский сагиб.
– Не продавайте, – говорил он продавцам хлеба. – Мне хорошо известно, что у русского сагиба нет ни одного тумана. Мало того, по своей бедности он ест коровье мясо и даже решается есть от голода такую нечистую вещь, как печенка, которую каждый правоверный выбрасывает собакам на съедение. Взгляните на его живот – он пуст, как турсук из-под воды.
Завязавшаяся между сагибами борьба заинтересовала не одни чайные и цирюльные лавки, но и медресе, так что мюджтехиды собрались на конференцию и поставили на разрешение важные вопросы: допускать ли вывоз хлеба из Мешеда? Не повысятся ли на него цены и не пострадает ли от того народ?
«Обсуди предмет, – сказал имам Али, – и ты познаешь истину».
Пока медресе обсуждало эти вопросы и приближалось к истине, на приказчика русского сагиба сыпался в караван-сарае целый град насмешек.
– Пойди, – говорили ему продавцы, – купи прежде краски и выкраси хвост своей лошади, а потом мы продадим тебе хоть десять тысяч харваров пшеницы. Да, кстати, скажи, неужели твой сагиб кушает печенку?
В ответ на эти насмешки приказчик русского сагиба приехал на арбе, буквально нагруженной мешками с серебряными кранами. Тогда картина мгновенно переменилась. Продавцам сделалось конфузно. Вера в английского агента Аббас-хана была тотчас же утрачена, тем более что он принял ислам весьма недавно, а перед тем занимался продажею опиума. Весь базар пошел навстречу покупателю.
В этот же день мюджтехиды получили копию договора, заключенного старшиной хлебного караван-сарая с приказчиком русского сагиба.
«Во имя Божие, лучшее из всех имен! – говорилось в договоре. – Поводом к совершению настоящего условия с соблюдением всех правил Шер’э служило следующее: в лучшее время из времен и в счастливейший час из часов предстали пред благочестивым и благополучным местом Шер’э, требующим повиновения и достойным глубокого уважения, поверенный русского сагиба, Омиль-мирза, и поверенный торгующих в хлебном караван-сарае, Мансуф-мирза. По собственному желанию, без всякого притеснения и согласно с условиями Шер’э, справедливого и неизменного, они заявили, что первый обязывается купить, а второй продать всю пшеницу и весь ячмень, сколько окажется этих зерен в сарае в следующую после договора пятницу. Омиль-мирза доставит свои мешки, но прежде чем нагрузить караван для отправления… куда ему нужно… он уплатит…»
Обсудив предмет, мюджтехиды решили помешать продаже хлеба русскому сагибу, так как повышением цен будет обижен весь народ, а ильхани не затруднится взять взятку не только с кяфира, но даже с дикой свиньи.
«У кази же, который решился засвидетельствовать подобный договор, следует немедленно отобрать печать, – прибавили к своему решению мюджтехиды. – Он, очевидно, невежда. Такой судья может засвидетельствовать договор хотя бы о продаже мышей, ногтей и волос. Мог ли он, обладая рассудком и знаниями, приложить печать к торговой записи, в которой не обозначено с точностью количество и качество проданных предметов?»
Для приведения приговора в исполнение вся корпорация мюджтехидов с хакимом Шер’э во главе направилась к хлебному караван-сараю. Нужно было, чтобы Мешед видел заботы о его нуждах и чтобы паломники, собравшиеся к Имамистеризе, разнесли по свету славу о служителях пророка. К процессии мюджтехидов пристали все софты и все ученики мактабов, бегающие везде и всегда за студентами.
Процессия шла величественно. Народ почтительно сторонился перед мюджтехидами. Даже ишакам, которые по своей природной глупости всегда готовы ржать, хозяева затыкали глотки клевером.
Караван-сарай был на виду процессии, когда из громадной толпы зрителей вышел приказчик русского сагиба и, приблизившись к хакиму Шер’э, сообщил ему со всеми знаками глубокого уважения:
– Русский сагиб послал в Имамистериз двадцать тысяч свечей, но я не знаю, кому их передать?
– Двадцать тысяч? – переспросил хаким с приятным изумлением, но, тотчас же овладев собой, добавил с величественной простотою: – Оставьте приношение сагиба на дворе мечети.
Вместе с тем хаким замедлил ход процессии, заметив, что солнце склоняется к горизонту, поэтому правоверным пора озаботиться третьим намазом. Кстати же поблизости находились сады, хозяева которых с большой радостью отворили свои калитки для принятия почетных гостей.
На этот раз при наступлении дня рождения Али хаким приступил к намазу с особым благоговением. Когда астролог из медресе определил кебле – направление к храму Каабы в Мекке, весь сонм мюджтехидов и софтов опустился на колени. Легкомысленная молодежь, разумеется, ограничила бы намаз прочтением одной из коротеньких сур Корана вроде «сурового чела» или «согнутого солнца», но из-за стен виноградников и с крыш соседних домов смотрели тысячи любопытных. Такие знатные процессии не каждый день ходят по улицам Мешеда. Поэтому хаким решил прочесть всю «корову» с ее двумястами восемьюдесятью шестью стихами. При умственном чтении этой суры следовал ряд строгих уставных поклонов с дотрагиванием рукою до коленной чашки. По окончании же последнего стиха, с просьбой о победе над неверными, хаким перешел к селяму, когда можно приветствовать всех верующих поворотом глаз во все стороны.
Обычай воспрещает производить торговлю после вечерней зари. Нарушение этого порядка угрожает жадному торговцу встречей с нечистой силой, которой сам Аллах разрешил бродить по базарам в неурочное для торговли время.
По окончании намаза хлебный караван-сарай был уже заперт, и хакиму оставалось обратить процессию домой, тем более что наступало время молитвы в Имамистеризе. Здесь, при самом входе в мечеть, лежало благословенное число ящиков – сорок – с превосходными стеариновыми свечами.
– Аллах акбар! – произнес хаким и распорядился немедленно осветить Имамистеризу.
Мечеть распространила в эту ночь лучи своего яркого света на весь Иран. Правда, старый грешник ильхани подсмеивался потом над неожиданным счастьем мюджтехидов, но ему ли было препятствовать продаже хлеба русскому сагибу? Беспокойные часы, когда мюджтехиды и софты волновали народ, он просидел у себя в гареме и ожидал с нетерпением, будут ли ферраши побиты народом или нет». Увидев, что дело обошлось благополучно, он принялся писать записку русскому сагибу.
«Высокостепенный сагиб! Вы не бойтесь того, что некоторые неблагоразумные люди задумали помешать вам с закупкой хлеба. Покупайте сколько хотите! Если вам нужны ферраши для вашего спокойствия, я пришлю их сколько вам угодно. А для моего спокойствия вы пришлите мне вторую золотую люстру, так как мои глупые люди разбили первую люстру, чем меня очень опечалили. Ожидаю. Караван же с хлебом я советую вам отправить ночью. Жадным глазам никогда не следует показывать предметы их жадности».
Прочитав это послание, русский сагиб, носивший по требованию дипломатии статское платье, ответил любезным согласием немедленно выписать из России вторую золотую люстру.
Относительно первой люстры со старым грешником случилось обстоятельство, над которым немало посмеялись мюджтехиды. В гареме его появилась в последнее время рабыня, приобретенная им, скорее силой, нежели деньгами, от какого-то подозрительного человека Якуб-бая, пробиравшегося окольными путями из Теке в Тегеран. Он вез с собой девушку – несомненно, на продажу – поразительной красоты, выпадающей на долю горной дикарки. По ее словам, она родилась в Нухуре, попала в плен Теке и уже оттуда следовала поневоле за своим хозяином. Освобожденная из неволи и оставленная в гареме ильхани, она дико осматривалась некоторое время, но потом быстро поняла свою неотразимую власть над стариком. Даже когда она царапала ему глаза, он целовал ей ноги. Временный с ним брак она отвергла как установление, совершенно незнакомое ее родным горам. Тогда старый грешник дал развод одной из своих старух и отвел Аише четвертое штатное место в своем сердце.
Быстро освоилась Аиша со своим новым положением, тем более что благодаря природной красоте ей не нужно было сурмить брови и ресницы и наклеивать мушки на щеках. Старик исполнял с завязанными глазами все желания дикого котенка. Даже когда она увидела люстру в его парадной комнате и потребовала ее себе, желание ее было тотчас же исполнено. Но как заместить пробел в приемной зале? Весь Мешед знал, что у ильхани есть богатая вещь – золотой светильник с двадцатью свечами. Поневоле пришлось выпросить у сагиба вторую люстру.
Караван был уже наготове к выступлению, когда принц Рукн-уд-доуле, много слышавший об европейском комфорте, пожелал видеть у себя русского сагиба для приятных разговоров. При этом дружеском свидании принц высказал желание сесть когда-нибудь в крылатую коляску и приехать с визитом к своему русскому другу.
Сагиб немедленно обещал выписать для такого радостного случая крылатую коляску из России – и караван был отпущен.
Английский агент мог после этого кусать свои ногти, как сладкий леденец, и любоваться, как перед его глазами проходил громадный русский караван по направлению к границе Теке. Когда он поравнялся с медресе, мюджтехиды вышли на улицу и призвали на него благословение Аллаха.
«Персидская продовольственная база готова, – писал сагиб Гр-ков русскому сардару. – Хлеб подойдет к Гярмабу и в Буджнурд на самой границе Теке. Если он вам нужен теперь же, то вышлите колонну для конвоя. Ожидаю позволения отправиться к отряду».
Весть эта, доставленная отчаянно быстрыми джигитами, принесла Михаилу Дмитриевичу поистине художественное наслаждение. Он даже разрешил своему другу графу Беркутову выпить по этому случаю лишнюю бутылку шампанского.
VIIIОбещание выдать в задаток несколько мешков свежеотчеканенного серебра побороло нерешимость прибрежных туркмен. Они решились наконец дать пять-шесть тысяч верблюдов, но с обязательством распоряжаться ими только между морем и Дуз-Олумом. Идти далее, в Бами и вообще в оазис Теке, домовитые иомуды не соглашались. Они боялись мщения теке как урагана, способного обратить все их добро в пепел и мусор.
– Хорошо, если русский сардар победит, – рассуждали их вожаки, – а если он поступит как в прошлом году – придет, постреляет и уйдет? Что тогда будет с нашими стадами?
– Теперь русскими командует другой сардар, – возражали охотники до свежего серебра. – Теперь Ак-Падша прислал истинного гёз-канлы, а этот не уйдет.
– Гёз-канлы действительно может сделать многое, но ведь у теке есть аулиэ, которым ничего не стоит засорить и кровавые глаза тучами раскаленных углей. Ему достанется стыд, а нам разорение.
Однако мешки с серебром, не давая покоя иомудам и гокланам, склонили их сначала к размышлением, а потом и к решимости дать подрядчику верблюдов, хотя и с клятвой водить их только до Дуз-Олума. Клятву взяли с него лично и притом по указанием адата самую страшную: его заставили переступить через деревянную подпорку, которою поддерживают верх кибитки – тен-тек. Сам отец нечестивых должен бы задуматься, прежде чем нарушить клятву при этой обстановке, но подрядчик был, кажется, иного мнения: его не пугал зарок, отдававший и его, и семью его, и все его колено во власть огня и тысячи терзаний.
Вслед затем перед складами Чекишляра появились из-за Атрека массы верблюдов. Весь гарнизон был выслан на вьючку караванов. Вскоре они потянулись вереницами, один за другим, день за днем, – на восток, в глубь страны…
Склады у Каспия опустели.
Наступило время Можайскому подвинуться ко второму операционному базису, быстро нараставшему в Дуз-Олуме. Отсюда шли уже вести о появлении классических в военное время усушек, утечек, мышах.
Можайский поднялся громоздко, в рессорном экипаже, за которым плелся кулан, нагруженный мешками ячменя. На козлах балансировали Кузьма и Дорофей. Первому предоставлялось сесть на кулана, но, почитая последнего за осла, он ставил поездку на нем ниже своего достоинства.
Попав к Можайскому вестовым, а в сущности кучером, солдатик Дорофей оказался редким экземпляром: поступив недавно на службу и притом прямо на красноводский огород, он имел довольно-таки слабое понятие о военных науках. При полированности Кузьмы и невежестве Дорофея между ними поселился раздор, но прежде нежели он проявился в определенной форме, они употребили несколько суток на подыскание слабых сторон друг у друга. Наконец они были найдены. Дорофею случилось в приливе особого восторга оторвать зубами каблук у ротного цейхгаузного, а это дало Кузьме повод переименовать его в Откуси-каблук. Дорофей, как слабейший по диалектике, возражал в подобных случаях противнику одним замечанием: «Эх вы, санпитербурские!»
Отделиться от колонны было и опасно, и не в порядке, а идти с колонной шаг за шагом – тоскливо. За три версты от Чекишляра начиналась неоглядная степь – ровная, сухая, голая, с ощипанными кустиками соледревника и недощипанными корнями асса-фетиды. Изредка появлялись миражи и то убогие, наподобие солончаковых засух и фальшивых озер.
Одним из взводов колонны командовал Узелков, который, присаживаясь по временам к дяде Борису, развлекал его подслушанными рассказами бывавших в этой степи апшеронцев и полтавцев.
– Первый ночлег будет в Караджа-Батыре, – объяснил он дяде. – Здесь этапный начальник строит баню для гарнизона и, как только окончит ее, сейчас же застрелится.
Действительно, в Караджа-Батыре скука доходила до одурения, но, разумеется, этапный вовсе не располагал застрелиться даже и по окончании постройки ротной бани.
– Сегодня прибудем в Яглы-Олум, – докладывал Узелков на втором переходе. – Здесь протекает река Атрек, настолько многоводная, что по ней могут ходить паровые суда. Берега ее покрыты сплошными виноградниками.
Узелков повторял официальные, добытые расспросным путем сведения. Поверив людскому говору, сюда доставили паровой катер, но, к общему удивлению, он уперся кормой в персидский берег, а носом в туркменский. Такова была многоводная река. Вместо сплошных виноградников оказались одни камышовые заросли.
За Яглы-Олумом начальник колонны удвоил военные предосторожности, так как отсюда начиналось излюбленное текинцами место для нападения на русские транспорты. Но и Текенджик прошли без тревоги. Видимо, текинцы ждали неприятеля у себя дома.
– А вот здесь Чады, – говорил Дорофей Кузьме, желая показать ему свои географические сведения.

