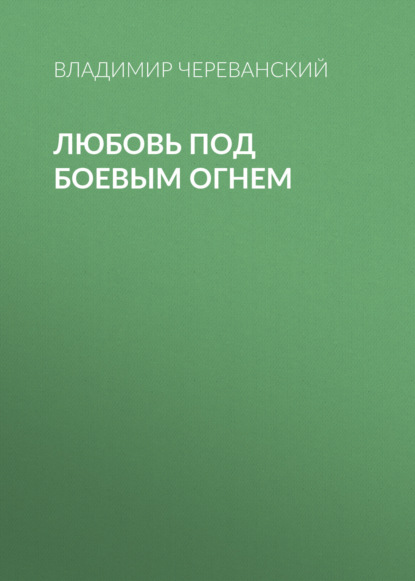 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
Усталый караван дремал. Бодрствовали одни часовые да шакалы, приближавшиеся с отвратительным воем к биваку в надежде покормиться отсталым верблюдом. В палатке начальника колонны горел всю ночь огонь, точно господа офицеры и не располагали двинуться ранним утром в дорогу.
Но чуть оно забрезжило, горнисты протрубили подъем, и караван, вновь окутанный тучей непроницаемой пыли, двинулся туда, в дальнее Теке, в страну вольных сынов закаспийской степи.
XXXIIIЗа караваном зорко следили. Он не успел перейти Узбой – это спорное русло древнего Яксарта – как гонцы из Теке уже подкрадывались к нему, осматривали и неслись обратно к сардару.
«Когда придут русские из-за моря, – говорило переходившее из рода в род Теке предание, – они поставят своих начальников, людей без всякого понятия об аломанах, и дадут каждому человеку свой номер, а всю воду спрячут под замок…» Храня это предание, торговля с Россией не пользовалась в Теке почетом, и только обмен ковра на хороший клинок или лисьих шкур на серебряные ножны не считался делом презренным.
Софи-хан, посмеиваясь в душе над предрассудками, не брезговал скупать мерлушки и отправлять их скрытыми путями на продажу в Россию. Бывалые люди говорили ему, что хотя в России и есть овцы, но они дают только по одному ягненку в пять лет. Сношения с русскими купцами он вел потаенно и от народа, и от своей строптивой жены.
Но все-таки главной доходной статьей Софи-хана была вода, делавшая его господином значительной части оазиса. Впрочем, главный кариз был собственностью его жены, доставшийся ей от покойного Нур-Верды-хана. Кариз представлял собою ряд колодцев, соединенных на уровне подпочвенной воды тоннелем с покатостью для стока. Идя от предгорья, кариз вскрывался на луговой равнине, где и дарил людям хлеб и жизнь. Вероятно, и этот кариз был выведен при помощи каторжного труда, к которому сунниты так хорошо приспособляли пленных шиитов.
В голове кариза, у самого предгорья, возвышалась кала Софи-хана, напоминавшая своей толстой оградой крепостцу, в которой он нередко и отсиживался от своих недругов. Недругов же у него было много, так как некоторые неприятные люди думают, что в Коране нет разрешения брать деньги за воду. Кроме того, не в обычае Теке содержать гаремы, а у него было несколько жен и, разумеется, не из текинок. Девушки Теке, обращаясь с ручными мельницами или с приготовлением войлока, не годились для услаждения избалованного сластолюбца. По преимуществу он добывал «соловьев и розы» за деньги из Хорасана и Бухары; прежде бывали у него и казачки с Урала, но они слишком много плакали и не доставляли никакой утехи. Особенно же он дорожил красотой дочерей Армении, попадавших случайно в гаремы Ирана.
Все эти слабости были таковы, что и при громадном влиянии старшей жены – строгой ханум Софи-хан не попал в четверовластие. Впрочем, по одному уже своему богатству, он обязан был примкнуть к общей народной обороне. Русские упорно надвигались от Каспия, а отшатнуться в такую годину бедствия от сородичей значило бы испытать презрение настолько черное, что его не обелила бы вода всех каризов Теке. Даже в гареме он не нашел бы отрады!
Притом же он отлично понимал силу и значение своей строгой жены. Если она решилась выйти за него замуж после смерти Нур-Верды-хана, то, разумеется, не для того, чтобы дрожать над мешками персидских туманов. Теке почитало ее и за обширный ум, и за преданность народу. В народных советах ей принадлежало последнее слово. Занимаясь политикой, она нисколько не огорчалась гаремом мужа.
– Старый дурак – и больше ничего! – говорила она в присутствии седобородых мужей. – Он начал слушать соловьиное пение, когда слух потерял.
В последнее время она воспретила мужу вход на женскую половину. Ссора их возникла по чисто стратегическим вопросам. Он убеждал сородичей напасть на русских только у стен Геок-Тепе, а она требовала гнать их немедленно, в пески, на голодную смерть. Кстати же и время было подходящее: из Красноводска шли вести о движении необыкновенно большого каравана с хлебом.
– Тебе не ханом быть, – укоряла она мужа, – а торговать каракульками, тебе не мультук держать в руках, а косу персидской девчонки! Собака!
В свою очередь и Софи-хан побранивал жену, но только иносказательно, обиняками.
– Десять женщин, – говорил он, – составляют только одну курицу, а если бы у курицы был ум, то она не стала бы клевать сор.
Однако она заметила, что такие глупости могут говорить только таджики своим рабыням, но еще ни один текинец, слава богу, ничего подобного не говорил своей жене.
Ссора эта повлекла к большим последствиям. Но прежде нужно сказать, что Софи-хан принужден был, несмотря на свою скупость, объявить всему Теке, что потрудившийся над стенами Геок-Тепе может идти на отдых к его каризу как на свою землю и получать от него бесплатно воду, хлеб и баранину. Теке так и поступали. Одна половина работала возле Голубого Холма, а другая отдыхала в это время на землях богатого сородича.
Ханум упросила даже четверовластие поставить на время пушку в ее кале и знамя с пятью вышитыми пальцами и стихами из Корана. Заряды поступили также под ее охрану.
Обиженная отказом мужа напасть на русский караван и не желая остаться при названии курицы, клюющей сор, она решилась на чрезвычайную меру: сама зарядила пушку – и выстрелила! По этому выстрелу теке должны были схватиться за оружие. Передовые бойцы не замедлили явиться к кале, и сконфуженному Софи-хану пришлось держать ответ перед ними.
– Еще большой опасности нет, – говорил он собравшимся батырям, – но мы нуждаемся в военном совете.
– Нужно напасть на русский караван, – пояснила его мысль стоявшая тут же ханум.
– Только женщина может говорить такие неразумные вещи, – возразил Софи-хан. – У нас для войны есть сардар, а ты что такое? Ты женщина! Уйди отсюда!
Одной из приятнейших сторон степной жизни можно считать передачу новостей. Уловив хорошенький хабар, счастливец схватывает коня и мчится в ближайший аул с несомненным правом на почетное внимание и обильное угощение. Здесь каждый старается завлечь гонца в свою кибитку и выставить ему турсук с кумысом или большой ломоть вяленой конины. Пока он повествует и угощается, в ауле уже готовы новые скакуны – и новые счастливцы разносят хабар повсюду, где есть внимательные уши.
Весть о выстреле из крепостцы Софи-хана разнеслась по оазису с изумительной быстротой и подняла аулы со всем их скарбом. Они подтянулись к каризу, как заранее намеченному сборному пункту. Вскоре оазис обратился в пустыню, зато по всей длине кариза вырос огромный табор. Теке спешили бросить родные горы и степи.
Прибыло и четверовластие.
Тыкма-сардар очень пожурил Софи-хана за неурочный выстрел, поднявший народ ранее намеченного часа, но ханум заявила, что ее джигиты принесли весть о появлении белых рубах на вершинах Копетдага.
– А долго ли спуститься с гор в долину и захватить врасплох не вооруженную еще крепость?
Оставалось открыть военный совет и сделать вид, что все дела идут по дороге, указанной Аллахом. Ханум потребовала и себе место в совете, куда она и привела гонца, только что прискакавшего со стороны моря. Четверовластие тщетно попробовало вытеснить из своего круга женщину, но она была настойчивого характера.
– Туркменская земля никогда не видела у себя такого большого каравана, какой выступил из Шагадама и идет в Теке, – докладывал совету гонец, гордившийся, очевидно, сознанием всей важности своих сведений. – Ему недостает не только воды, но и воздуха…
– Много ли при караване сербазов? – спросил Эвез-Дурды-хан.
– Сербазов невозможно пересчитать! Они идут в такой пыли, что даже верблюды беспрерывно чихают.
– А как они держат мультуки – при себе или во вьюках? – продолжал допрос Ораз-Мамет-хан.
– Большие мултуки они несут на плечах, а маленькие за поясом.
– Есть ли при караване джанарал? – поставил и от себя вопрос Хазрет-Кули-хан.
– Джанарал есть, только не настоящий, потому что он едет верхом, а не в ящике.
– А тыр-тыр идут впереди или по бокам каравана? – заключил допрос Мурад-хан.
Относительно тыр-тыр гонец ничего не мог объяснить.
– Нагнали же они на тебя страху! Ты дрожишь как новорожденный теленок, – заметила ханум своему джигиту, не оправдавшему ее плана. – Пойди, мой сын, умойся холодной водой, от нее человек делается храбрее.
– Ханум, я не трус. Взгляни, где мои уши. Я оставил правое в Хиве, а левое в Персии, оба отрублены в аломанах.
– Вижу, что ты несчастный, тебя и на верблюде собака укусит.
Гонец выступил с новым оправданием.
– Сын мой! – прикрикнула тогда ханум. – Не поднимай ногу, когда куют лошадь, и помни, что так поступают одни ишаки.
Второй гонец был счастливее своего товарища. Он подтвердил, что караван идет небывалый и с такой поспешностью, что верблюдов, у которых стерлись пятки, бросают в степи как раздавленных лягушек. Вьюки павших верблюдов сербазы перекладывают на запасных и идут вперед, не останавливаясь ни на одну минуту. За ними бегут стаи шакалов.
– Сколько сербазов? – спросил Эвез-Мурад-хан.
– Сербазов хотя и много, но они очень маленького роста, – докладывал расторопный гонец. – Они не выше годовалого жеребенка и при этом боятся ходить по земле голыми ногами; все они в толстых сапогах.
– Сын мой, – отнеслась поощрительно к гонцу ханум. – Я вижу, что ум вырос у тебя раньше седого волоса, продолжай!
– Умеют ли они стрелять? – спросил кто-то из четверовластия.
– Русские стреляют неправильно, так как глаза у них голубые, а голубыми глазами далеко ли увидишь!
– Сын мой, если у тебя есть дитя, которое нуждается в молоке, возьми лучшую козу из моего стада. – Так наградила ханум умного вестника. – Вот человек, который не оставлял своих ушей ни в Хиве, ни в Персии, его нужно слушать. Неужели, сардар, ты предпочтешь совет моего мужа, сумевшего отрастить такое брюхо на каракульках, моему предложению напасть на русский караван?
– Ханум, это дело большой важности, – заметил Тыкма-сардар, нуждавшийся в дружбе богатого Софи-хана. – Я готов напасть на русский караван, но вы, ханум, знаете, что разорение людей идет от их несогласия. Какое же бывает согласие между мужчинами, когда возле них сидит женщина?
Ханум, сдавшись на этот довод, оставила заседание совета и приказала одному из почтительно ожидавших ее джигитов подвести ей любимого коня. Ей подвели аргамака под богатым чепраком с наборной уздечкой и стременами, убранными яшмой. Годы не мешали ей очутиться на седле с легкостью молодого наездника. Становище, куда она отправилась с целью оживить дух народа, приветствовало ее знаками глубокого уважения.
Но вот прибыл еще один гонец, и ханум предпочла возвратиться в заседание четверовластия.
– По всем приметам каравану приходится плохо, – докладывал он совету. – Третьи сутки верблюды его не поены, и хотя им дают время побродить по степи, но корма нет. Саксаул весь истребили прежние караваны, теперь отпускают каждому верблюду только по нескольку пригоршней муки. Караван охраняют исправно. На ночь высылают шагов за сто от него в разные стороны сербазов, которые копают себе маленькие ямки и ложатся в них, как жаворонки в гнезда.
– Сыкрет! – вымолвил по-русски сардар, знавший и этот порядок, и это слово.
– Да-да, сыкрет! – подтвердило все четверовластие.
– Время от времени вокруг каравана ездят казаки, – продолжал гонец, – и смотрят, не бежит ли в степь лоуч с верблюдами.
– Патруль! – объяснил по-русски сардар.
– Да-да, патруль! – повторил весь совет.
– Сын мой, – круто поставила ханум интересовавший ее вопрос, – если пятьсот доброконных джигитов нападут ночью на русский караван, будет ли успех?
Сардар решился наконец заметить, что война с неверными – дело мужчин, а не женщин и что напрасно некоторые думают испугать русского сербаза ножницами, которыми стригут баранов. Почувствовав обиду, ханум раздергала свою косу, и метнув неприветливо зрачками, замолкла. Она замолчала потому только, что признавала сардара за истинно военного человека, который не торговал, как ее муж, мерлушками и не держал гарема.
– Успеха можно ожидать, если нападение поведет сам сардар и притом ночью, когда аломаны удаются лучше, нежели днем, – пояснил опытный в аломанах гонец.
– А как нужно нападать? – спросил сардар с легкой насмешкой, как спрашивает профессор неуча.
– Прежде всего нужно броситься к верблюдам и закричать «гайт!», – отвечал наивно джигит, желавший показать себя человеком не без военных познаний. – Верблюды подумают, что им пора в дорогу и всполошатся. Тогда нужно крикнуть лоучам, чтобы они бежали в степь. Они убегут! Им в караване достается больше толчков, чем лепешек. А когда верблюды всполошатся и лоучи разбегутся, то произойдет такая суматоха, что сербазы сами пойдут под ножи.
Сардар недоверчиво покачал головой.
– Легко сказать, – заметил он, – броситься, закричать и перерезать всех сербазов. А как их перережешь, когда они выставляют и сыкрет и патрули?
Впрочем, и ханум усомнилась в возможности такой простой расправы.
Гонец оставил совещание.
– Я возьму джигитов и отправлюсь по дороге к Кизил-Арвату, – объявил сардар, который все еще колебался, повести ли ему партизанскую войну или сосредоточиться вокруг Голубого Холма. – Если я буду предвидеть успех, то пришлю сюда гонца за людьми, а тем временем вы готовьте оружие.
– Да, нельзя предпринять такое большое дело с завязанными глазами, – единогласно подтвердило и четверовластие. – Мы слушали одних молодых людей, а у них что на уме? Они всегда забывают, что маленькие черные пауки опаснее больших черепах.
Выразив согласие с мудрым решением сардара, ханум распорядилась наполнить его саквы лучшим вяленым мясом и колобками на хорошем курдючном сале. Остальные сборы были недолги. Начальство над войском сардар передал своему сыну Ах-Верды, с тем чтобы он повиновался приказанием четверовластия и заботился о скорейшем окончании стен у Голубого Холма. Летучий отряд был весь одвуконь и состоял под начальством Мумына из людей, растерявших уши в Хиве и Персии.
Вскоре с напутственными возгласами «Аллах акбар!» он выступил иноходью по дороге к Кизил-Арвату, к которому уже приближался со стороны Шагадама караван графа Беркутова.
XXXIVМного уже верблюжатины досталось в добычу шакалам, но караван не замедлил ни одного шага, упорно двигаясь по направлению к оазису. Изредка, правда, господа офицеры позволяли себе маленькие вольности и уходили дальше, чем следует, но в таких случаях за ними ревностно следил вахмистр Кныш. Песенникам, по его словам, было неспособно разевать рот в туче пыли, поэтому он высылал их вперед как бы для развлечения, а в сущности, для прикрытия господ офицеров.
Без этой маленькой хитрости граф Беркутов и поручик Узелков попали бы в цепкие руки Мумына и его товарищей.
Двое суток сардар следил за караваном и, только убедившись в невозможности внести в него внезапную смуту, начал ласкать себя мыслью захватить в плен хотя бы начальников, рисковавших оставлять свой отряд. Однажды на пересеченной барханами местности арканы джигитов были уже наготове, как внезапно грянула песня:
Где ты, где ты, дорогая!С кем ты, с кем ты, золотая!Аль не помнишь, как клялася,Как клялася – распиналась?..Невинная и даже глупенькая сама по себе песенка решила многое: сардар отбросил дальнейшую мысль о нападении на караван и повернул коня обратно в Теке.
Он возвратился вовремя.
Не получая от него в течение пяти суток никаких известий, нетерпеливая ханум заявляла желание вызвать охотников и идти к нему на выручку. Разумеется, охотникам ничто не помешало бы напасть на караван… но четверовластие воспротивилось своеволию женщины и даже поговаривало о ее аресте. Печальные последствия могли выйти из этой необдуманной меры. Народ помнил, что Хазрет-Кули-хан и Мурад-хан были простыми джигитами у покойного мужа ханум, Нур-Верды-хана, поэтому в народной среде мог легко возникнуть опасный для Теке раскол.
Возвратившись из неудавшегося предприятия, сардар тотчас же приказал отбросить всякую мысль об отдельных нападениях на войска гяуров и сосредоточить все силы Теке у стен Голубого Холма.
Почти одновременно с его возвращением у кариза появился известный уже в Теке Якуб-бай. По его словам, он побывал в Чекишляре, чтобы узнать все секретные намерения русского сардара, и бежал оттуда, причем за ним была послана большая погоня. И действительно, его бешмет был изорван, а его физиономия была помята. Но он спас свою жизнь, зная, что она нужна всему текинскому народу. Правда, он потерял в стычке с погоней двух лошадей и седло, в котором были зашиты пятьсот персидских туманов, но что за дело? Теке знает цену хорошей услуги.
– Джанарал инглези поручил мне передать его приветствие всему текинскому народу, – заключил свое повествование Якуб-бай.
– На что нам его приветствие? – спросила раздраженная последними событиями ханум. – Разве от его приветствия уменьшится число блох в моем одеяле?
– Ханум, – заметил Якуб-бай, почтительно приложив руку к сердцу, – вы хорошо знаете, что птичий язык понятен только птицам, поэтому приветствие инглези понятно только мне, понимающему обычаи чужих земель…
– Поговорим о настоящем деле, – прервал эту беседу сардар. – Где же теперь джанарал и скоро ли его королева пришлет нам свою помощь?
– Сардар! Когда русские узнали, что джанарал и я – друзья текинского народа и решили нас арестовать, джанарал завернулся в английский флаг и отправился на лодку, мне же он дал для передачи вам свою книжку, в которой сказано многое. Он просит вас порвать непременно проволоку, которую русские протянули до Дуз-Олума. В ней большая сила. Он также просит вас… не держать меня долго в Теке и отослать в Тегеран, где я буду говорить в пользу Теке с самым важным человеком инглези.
Якуб-бай, вынув из бешмета завернутую в носовые платки книжку, поднес ее сардару.
– Прочтите, – вежливо попросил сардар.
– Нет, пусть прочтет мулла из Казани, – потребовала ханум, – он знает по-русски.
– Джанарал вовсе не такой простой человек, чтобы писать по-русски, – заметил Якуб-бай. – Он писал языком, одному мне известным, – языком инглези.
– Ох, сын мой, не пустые ли ты говоришь слова? Предоставь это старым скворцам, им тоже нужно иметь свои занятия.
– Прочтите, что пишет джанарал, – сказал сардар, – и нет ли у него наставления, как можно испортить русские пушки?
– Он пишет, что русские пойдут в Теке с трех сторон света и, сойдясь в Дуз-Олуме, двинутся дальше к Геок-Тепе. Прошлогодних начальников заменит новый – молодой и храбрый человек с красными глазами – «гёз-канлы». Ему Ак-падша даст столько пушек, сколько он сам захочет.
– А сколько у него сербазов?
Якуб-бай перелистал книжку и сделал вид, что нашел искомую цифру.
– У него двадцать пять тысяч сербазов.
После этого степенно и важно, не перебивая друг друга и обдумывая слова, каждый член четверовластия поставил по вопросу. «Все ли солдаты будут с ружьями? Сколько будет на коне и сколько пеших? Хороший ли у них слух? Неужели они могут пить морскую воду? Правда ли, что у них есть пушки, похожие на горшки, в которых готовят чуреки?»
Не было вопроса, на который Якуб-бай не нашел бы ответа в книжке О’Донована.
– А когда же придет к нам на помощь войско инглези? – спросила недоверчивая ханум. – Гяуры у порога моего дома, а инглези все еще за горами!
– Ханум, я отвечу вам по возвращении из Тегерана! – заявил Якуб-бай, завертывая вновь дневник О’Донована в носовые платки. – Туда я отправлюсь под видом купца и сделаю для Теке все, что угодно Аллаху.
– Пусть удача будет твоим спутником.
– И ваша мудрость, ханум…
– Ты, мой сын, хорошо говоришь…
– Напротив, ханум! Обладая вашим сладким языком, я мог бы провести слона по тонкому волоску.
– Очень, очень хорошо говоришь, а все-таки… я не села бы с тобой на одну лошадь.
Хотя Якуб-бай и отказывался от всяких подарков, но он отправлялся в Персию в интересах текинского народа, и не в таком же бешмете ему следовало говорить с правою рукой королевы инглези? Разве на такой разбитой, усталой лошади ездят послы? Притом же русские казаки отняли у него мешок с туманами. Все это сообразила ханум и открыла перед Якуб-баем и конюшню свою, и кладовую.
Сосредоточивая все силы на стенах Голубого Холма, четверовластие занялось накоплением военных запасов. Излишки хлеба и фуража были объявлены общей собственностью и направлены в крепость. Недостаток в оружии вызвал усиленное приготовление его; даже ювелиры стали у кузнечного горна, и шубники принялись точить пики. Старые серпы, потерявшие на нивах свои зубцы, пошли в переделку на длинные ножи. Наконец нашлись люди, искусные в приготовлении патронов. Подросткам поручили раздувать огонь, и благодаря их стараниям тучи искр понеслись, выражаясь словами степного барда, к небу с просьбой о защите против неверных. Наконец, ножницы, которыми стригут баранов, и те, насаженные на древки, поступили в народный арсенал.
Подъем духа был необычайный!
XXXVОтправляясь из Теке, Якуб-бай отлично понимал, что по ту сторону Копетдага титул посланника текинского народа может вызвать крупные неприятности. Века накопили такую ожесточенную вражду между Теке и Ираном, что ильхани последнего неохотно пропустили бы случай посадить Якуб-бая в клоповник. Не желая подвергать политику подобной случайности, он благоразумно предпочел лестному титулу посланника скромное звание курьера, посланного с важными известиями в Тегеран.
– Кем послан? Откуда? Почему не с запада, а с востока?
Ряд этих вопросов, предложенный в попутном городе каким-то несообразительным феррашем, заставил Якуб-бая принять до того гордую осанку, что разом отбил охоту к неуместному любопытству. Кроме того, он вынул дневник О’Донована и потряс им в воздухе, после чего ферраш охотно подержал ему стремя и пожелал счастливого пути.
Улица Лилий – Кучей-ла-Лезар – была хорошо известна Якуб-баю. Сюда он доставлял в прежнее время депеши из Тифлиса и увозил отсюда за свой счет вьюки с контрабандой.
Резиденция в Кучей-ла-Лезаре была расположена в прекрасном парке с серьезным европейским комфортом и с обстановкой резидента, знающего себе цену. Над главным домом красовалась башня с часами и флагом – здесь помещался сэр Томсон, а в отдельных флигелях, окруженных садами, жили секретари, врач и атташе – все Диксоны. Из них мистер Холлидей заведовал церемониймейстерской частью и секцией наблюдения за политическими отношениями России к Туркмении.
Сэр Томсон всегда удостаивал мистера Холлидея беседой, когда обстоятельства выдвигали на арену англо-азиатской политики Бухару, Хиву, Афганистан, Теке, Памир. На этот раз он удостоил своего атташе конференцией о вооруженных силах Теке.
– Россия открыто признается в намерении нанести Теке, под предлогом возмездия за прошлогоднюю неудачу грозный и решительный удар, – сообщал он доверительно. – Последствием этого удара будет присоединение к русской империи всей площади между границами Персии и Амударьей. Наше министерство иностранных дел едва ли выступит в защиту Теке, хотя бы потому, что политические нравы этого народа… несколько отличительны от требований международного кодекса. Попросту говоря, неудобно Англии защищать разбойничье гнездо. Но Персия – иное дело. Она, как соседка, может выступить с серьезными представлениями перед Европой. В этих соображениях я намереваюсь попросить аудиенцию у шахиншаха, но прежде я прошу вас, мистер Холлидей, составить записку о современном положении России на азиатском берегу Каспийского моря. Персияне удивительно ленивы, и, вероятно, канцелярия Сапех-салар-азама не в состоянии будет собрать необходимые сведения. Теперь же потрудитесь возобновить в моей памяти, достаточно ли мы обеспечены негласной агентурой в северных провинциях Персии. Кого мы имеем в Дарегезе?
– О’Донована. Он недавно прибыл в Персию.
– Но он алкоголик?
– Увы, сэр, вы правы. После изгнания его, и изгнания довольно позорного, из Чекишляра он послан нами в Кучан, где с ним повторился припадок алкоголизма. Здесь, опять-таки в пьяном виде, он начал поучать публично народ, как следует рубить головы русским. Комизм этой сцены не послужил нам на пользу.
– Правда ли, что он принял ислам?
– Да, сэр.
– Какая гадость! Постарайтесь выпроводить его в Мерв. Пусть он там распускает слухи о движении Англии к Герату. Кто у нас в Мешеде? Пожалуйста, не забывайте, какое он имеет значение в общем строе жизни шиитов.
– Мешед у нас хорошо обставлен. В настоящее время мы имеем там полковника Стюарта с паспортом Ибрагим-иссисааба, как бы занятого покупкой лошадей для Индии. Впрочем, полковник останется здесь недолго.
– И тогда?
– На его место прибыли из Индии два предприимчивых офицера, Джил и Ботлер. Вместе с нашим агентом в Мугаметабаде они заняты приготовлением софтов и мюджтехидов против продажи хлеба русскому комиссионеру. Софты уже волнуются, но и русские не дремлют; они выставили против нас человека, который, подобно О’Доновану, не затруднился принять ислам. Посещая принца Рукн-уд-доуле, вы могли видеть у него гувернера неизвестной национальности. Теперь он за то, что уверовал в пророка, получает от русского агента по десять фунтов в месяц.

