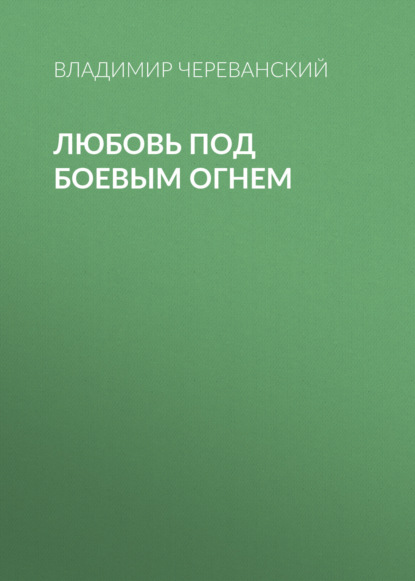 Полная версия
Полная версияЛюбовь под боевым огнем
– Прошу вас к себе на кашу.
– Благодарю, мне каша вредна.
После свидания с бранным воеводой Можайский потерял всякую охоту к дальнейшим визитам и, отложив их до другого времени, выбрался на берег моря. Миновав лагерную стоянку и ближние барханы, он остановился, когда уже огни Чекишляра совершенно исчезли из вида и море подернулось фосфористым блеском.
Одному человеку скучно у этого негостеприимного берега, поэтому Можайский пригласил к себе скрывшийся где-то там, далеко, за морем, образ молодой женщины… прошептавшей так мило, так очаровательно: «До лучших дней!» Ирина явилась – и пошла с ним рука об руку. Чувствуя возле себя ее веяние, Можайский переживал вновь вчерашний дивный, проведенный на пароходе вечер со всеми его неуловимыми для глаз душевными тонкостями…
XXVIIIЛагерная обстановка на берегу неумолчно рокотавшего моря никому не доставляла сердечной отрады. Из-за песчаных сугробов тянуло беспрерывно удушливой теплотой. Вместе с этой тягой проникли сквозь просветы войлока песочные струйки. Сквозь те же просветы виднелись и звездочки на небе. Температура уравновесилась только к утру, но тут пробудившиеся мухи взволновались, зароились и безжалостно принялись терзать дремавшего человека своими хоботками и лапками.
– Кузьма, чаю!
Кузьма внес чайный прибор, покрытый от мух кисеей, и с явным нерасположением ко всему сущему объявил:
– Сторона! Вместо чая – обмылки, и добро бы мылом пахнули, а то простыми серниками…
Чай действительно отзывался запахом спичек дурного изделия, но что делать, а la guerre comme а la guerre! И Можайский выпил, к немалому удивлению своего полированного лакея, два стакана невозможного пойла.
– Сегодня произойдет генеральная добыча водорослей, – доложил ему явившийся с докладом Зубатиков. – Хорошо бы накрыть всю эту махинацию с поличным.
– А депутат?
– Мы неразлучны.
Депутатом в Чекишляре состоял старый кавказский капитан, рубивший когда-то просеки перед мюридами Шамиля.
Солнце не успело обогреть прикаспийские дюны, как Можайский отправился со своими спутниками вдоль берега на казачьих пегашках за пределы Чекишляра. Оттуда несло специфическим запахом бухты с застоявшейся водой. Вскоре объяснилась и причина: толпы рабочих персиян выволакивали из моря снопы водорослей и раскладывали их для просушки по соседним барханам.
– А вот и Тер-Варианц, подрядчик по доставке сена из Ленкорани! – отрекомендовал Зубатиков армянина, распоряжавшегося работами с важностью человека, дающего себе хорошую цену.
– Позвольте, господин Тер-Варианц, узнать, вы для кого готовите это сено, для казны или в частную продажу? – спросил Можайский.
Тер-Варианц, гордившийся тем, что у его папеньки был дом на Головинском проспекте, нашел, что он может и покичиться перед незнакомцами.
– Тэбэ, дыша моя, какое дэло? Может быть, мы готовим сэно на продажу, а может быть, на тюфяки для барышень.
– Нагайкой бы его! – прошептал депутат, рубивший просеки перед мюридами Шамиля. – А еще лучше разложить бы!
– Нет, капитан, постараемся с ним сговориться. Есть предположение, – продолжал Можайский, – что вы ставите эту… траву в казенный склад, вместо ленкоранского сена?
– Проходи, милый, а если купить хочешь, так давай чистые денежки. Давай – продам!
– Вы видите перед собой комиссию, которая составит акт о вашем, извините за неудобное слово… о вашем мошенничестве.
– Ты – комиссия?
В этом вопросе Тер-Варианц не то поддерживал свое нахальство, не то терял амбушюр.
– Да, комиссия.
– Зачэм ты раньше не сказал? Развэ я так говорил бы с тобою? Теперь ты сам виноват, а акт я не подпишу. Это сэно мне нужно на тюфяки для барышень.
По возвращении в Чекишляр Можайский узнал, что с минуты на минуту ожидают прибытия из степи командующего, поверявшего гарнизоны по атрекской дороге. О появлении его должен был возвестить дозорный с верхнего этажа деревянной вышки, предназначенной для наблюдения за бродячим народом в песках. Дозорным был на этот раз Горобец, казак с Кубани. У подножия вышки стоял махальный – Галушка, тоже казак из пластунов, сошедшихся у Черноморья бог весть из каких частей России. После долгих ожиданий дозорный возвестил наконец:
– Командующий приихали!
– Де ж они приихали? – переспросил махальный, боясь взмахнуть флагом без твердого убеждения в том, что Горобец не ошибся.
– Кажу тоби приихали!
– Не бачу.
– По песчаной дорози скачут!
Командующего ожидали у штабного домика почетный караул и шеренга офицеров, прибывших с того берега и не успевших еще представиться начальству. Приняв почетный рапорт и обойдя представлявшихся, Михаил Дмитриевич пригласил к себе на завтрак Можайского и графа Беркутова.
– Прежде всего благодарю вас, Борис Сергеевич, за ваше согласие принять на себя нелегкую обузу моего всевидящего ока! Потом я доволен, что вы и мой милый граф в дружбе и согласии. На войне истинные приятельские отношения – великое дело! Ради же вящего укрепления добрых между нами чувств мы истребим сейчас по стаканчику шампанского.
– По одному? – спросил граф Беркутов.
– По одному, да и вообще ты, пожалуйста, не думай, что я позволю тебе утонуть в шампанском. Прежде всего я ушлю тебя вперед с первым же верблюжьим сухарным транспортом.
Завтрак прошел в дружеской оживленной беседе.
– Теперь простой и откровенный вопрос: как вы думаете, воруют ли у меня в отряде? – спросил Михаил Дмитриевич. – Если не воруют, я разрешу вторую бутылку.
– Кому и что у тебя воровать? – заметил Беркутов.
– Увы, – остановил его Борис Сергеевич, – передо мною все признаки казнокрадства! Зло не пустило еще корней, но уже дало хорошенький рост.
– Как! – вскипел Михаил Дмитриевич. – Я не успел и шагу сделать в экспедиции, как у меня уже завелись свои Затлеры! А я так надеялся, я так рассчитывал… я в первый раз несу ответственность за самостоятельное ведение войны – и вдруг… я и Можайский не в силах побороть мошенников?
– Я этого не сказал – напротив, при вашем несомненном расположении к моим усилиям ни одному из Тер-Варианцов мы не дадим ни одного очка. Кстати, о Тер-Варианце. Этому господину суждено быть пробным оселком с загадкой: быть или не быть воровству в вашем отряде? Вот что я докладываю вам… и, если хотите, официально.
Можайский передал историю с поддельным сеном, но он не успел еще дойти до последнего акта, как Михаил Дмитриевич вскипел и выкрикнул:
– Капитан Баранок, где вы пропадаете?
Капитан был здесь же, на веранде.
– Задержите пароход на рейде! Соберите штаб… для прогулки… а там увидим!
«Быть буре!» – подумал Баранок, хорошо уже ознакомленный с вибрацией голосовых связок своего генерала.
Остановка парохода имела мистическое значение. Вскоре обычная свита из адъютантов и штабных собралась у дома командующего, куда подвели лошадь и Можайскому.
– Мой первый визит – вашему Зубатикову, – сообщил ему шепотом Михаил Дмитриевич. – Пусть эти господа поймут всю прелесть моего намека…
Всякий шаг в Чекишляре был как на ладони.
«Кому же он сделает первый визит?»
Вопрос этот приходил в голову каждого чекишлярца.
«Разумеется, бранному воеводе, потом князю Эристову, потом… но зачем же он осадил коня у кибитки этой контрольной медузы?»
Зубатиков стоял у своей кибитки в несколько оторопелом состоянии, так как он меньше всего ожидал визита командующего.
– Да вы к тому же и мой боевой товарищ! – восклицал Михаил Дмитриевич, взглянув на его медали. – Позвольте, я отлично вас помню. Вы были членом комиссии по приведению в известность добытых мною трофеев у подножия Шипки. Вы принесли тогда неоценимую пользу. Помню, как вы опечатали неприятельские денежные ящики и написали на них: «Приняты в русское государственное казначейство». Сердечно вас благодарю, сердечно, и если вы встретите надобность в моей поддержке, телеграфируйте мне помимо всяких формальностей. Еще раз благодарю и прошу вас с собой на прогулку.
Зубатиков не успел вымолвить ни одного слова, как кавалькада была уже далеко.
– Ваше превосходительство, он принял меня за кого-то другого, – объяснял дорогой Зубатиков Можайскому. – Я не имею понятия о комиссии, приводившей в известность его трофеи, а что касается неприятельских денежных ящиков, то они также…
– То они также плод его богатого воображения, что, однако, придает вам особую аттестацию. Понимаете?
Кавалькада миновала лагерь, пристань, слободку.
– Ваше превосходительство, Борис Сергеевич! – кричал издали командующий. – Я хочу обревизовать Каспийское море. Пусть пришлют ко мне подрядчика, который доставляет такое прекрасное сено.
Буря приближалась. Михаил Дмитриевич перестал ласкать свои изящные бакенбарды, картавил меньше обыкновенного и штамповал каждое слово с отчетливостью монетного станка.
«Будет разноска!» – решил штаб, едва поспевая за Шейново.
Предвестники оправдались.
Побывав на месте производства ленкоранского сена, командующий поручил бранному воеводе отправить Тер-Варианца на пароход и указать ему путь на запад. За подрядчиком последовал – и также с полевым жандармом – интендантский чин, торговавший остаточками от непьющих солдатиков, и мелкота – агенты, у которых нашлась добрая сотня четвертей крупяных соринок.
Пароход снялся и повернул к Баку.
– Строгонько действует Михаил Дмитриевич, – говорил Можайскому бранный воевода после отправки на пароход своих приятелей. – Строгонько, но справедливо! Помилуйте, да если б я знал, что они воры, да я бы их!…
Для корреспондента сегодняшняя буря была находкой, но корреспонденции из отряда разрешались туго. Один доктор Щербак пользовался этим дорогим правом. После бури и разноски он явился пощупать пульс Михаила Дмитриевича и выпросить у него разрешение на посылку корреспонденции.
– Ваше превосходительство, – доказывал он генералу, – в английских газетах бог знает что плетут про экспедицию и про вас лично… и неужели мы будем отмалчиваться перед их клеветой?
– Ни одной строчки, ни одной, понимаете?
Тон командующего не допускал возражений.
– Но ваш просвещенный ум…
– И моя власть посадить вас, милый доктор, на гауптвахту? Я не прибегаю к этой мере потому только, что вы состоите представителем Красного Креста, на который я рассчитываю как на великую подмогу. Всякую пилюлю, какую вы мне пропишите, я проглочу, но решительно запрещаю вам посылать корреспонденции из отряда. Капитан Баранок, где вы пропадаете?
Капитан и его портфели были налицо.
– Прикажите «Чекишляру» развести, пары – и в дорогу. Мне утром нужно быть в Красноводске.
XXIX«Коробка с сардинками» – кличка, приданная «Чекишляру» дурно воспитанным капитаном купеческой флотилии, – гордо держала путь на север. Гордость ее опиралась, впрочем, не на индикаторные силы, а на флаг командующего отрядом закаспийских войск. Вслед за оставлением рейда пассажиры «Чекишляра» разделились на половины – беззаботную и деловую. Первая, из адъютантов с графом Беркутовым, поместилась на палубе; деловая же заняла салон и притом с предосторожностями, указывавшими на серьезность предстоявшей работы.
В салоне открылось под председательством командующего совещание о ходе хозяйственной стороны экспедиции. Интенданта в совещании не было, да его не было и потом, по окончании всей войны. Обязанности его исполнялись совсем неподходящими людьми, даже одно время майором из иноверцев, едва-едва разбиравшим русскую грамоту.
Кроме Можайского в совещании находился начальник штаба полковник Гр-ков. Нелегко было разобраться в определении душевного строя этого человека. Его пытливые зрачки менее всего выражали любовь к ближнему. Порывы его сердца отличались сухостью. Никогда и никто не предполагал в нем и признаков инициативы, а между тем из-под его пера вышли впоследствии многие тома богатых исследований по этнографии Средней Азии. За наружной сухостью его скрывались чуть не гражданские слезы, так что ходячее мнение о лице как о зеркале души не имело к нему применения.
Командующий был с ним на «ты», но – опять раздвоение – мог расстаться с ним без сожаления хотя бы и накануне штурма.
– Николай Иванович, – обратился к нему Михаил Дмитриевич, – я намерен посвятить и Бориса Сергеевича во все планы и расчеты нашей экспедиции, при этом я не желаю играть с ним в авгуры. Вы знаете, господа, что теперешняя экспедиция есть не более как последствие прискорбнейшей из наших неудач в Средней Азии. В прошлом году наш отряд ретировался из Ахал-Теке с потерями в людях и оружии, а главное с громадным уроном боевой силы. Господа, которым была доверена экспедиция, забыли классическое выражение, по которому «время войны есть сумерки богов», а во время сумерек нужно пробираться в незнакомом месте с опаской. Из этого триумвирата один считал Ахал-Теке за Унтер-дер-Линден, другой – за прогулку по Ривьере, а третий – за золотые россыпи.
Последовала минута раздумья.
– И вот, – продолжал Михаил Дмитриевич, – на нашу долю выпала честь поправить прошлогоднюю неудачу. Тебе, Николай Иванович, известно, что Азия дает цену нашим военным ошибкам более дорогую, нежели нашим победам, поэтому всякую неудачу в Азии мы должны немедленно смывать хотя бы ценой крови. Азиата нужно бить по воображению. Раз мы допустим его воображению разнуздаться на наш счет, нам придется посылать в Азию не полки, а корпуса и армии… На поправку закаспийской авантюры приглашали многих, но по сметам этих избранников выходила надобность в трех годах времени и в тридцати миллионах капитала. Вспомнили тогда обо мне, и хотя я не в фаворе…
– Вы не в фаворе? – невольно воскликнул Можайский. – Вы не в фаворе после Шейново и Ловчи?
– Дорогой мой, вы наивны! Так вот, когда вспомнили обо мне, я выпросил полтора года времени и пятнадцать миллионов. Насколько я успел осветить для себя Туркмению, вся трудность экспедиции будет заключаться в транспортной силе и в продовольствии. Теперь, Николай Иванович, выслушай мои соображения насчет продовольствия. Мне не хотелось прибегать к любезностям Персии, но, признаюсь, верблюды не даются мне в руки, поэтому приходится перестроить весь продовольственный базис отряда. С берега я двину все, что возможно, но пока в Дуз-Олуме и Бами не будет пятисот тысяч пудов, я не решусь подписать приказ об отряде вторжения. Как ты думаешь, за приличный бакшиш персидские ильхани помогут нам заготовить хлеб и фураж в Хорасане?
– Ильхани очень любят маленькие подарки…
– Прекрасно, не устроишь ли ты заготовку в Персии?
Гр-ков не рассчитывал на подобное предложение; он не готовился к роли интенданта. По тому же положению, какое он занимал в отряде, командировка в Персию за покупкой хлеба и фуража равнялась чуть не удалению от лавров и генеральского чина.
– Разумеется, ко времени вторжения в Теке я вызову тебя оттуда, – поспешил его успокоить Михаил Дмитриевич, – взгляни вокруг, кто у меня из интендантской силы?
– Я исполню приказание вашего превосходительства.
– Что делать, не сердись, мой дорогой. Теперь о перевозке. В нашем походе верблюд есть залог успеха. Дайте мне услышать рев каравана из двадцати тысяч голов, и я откажусь навсегда от оперы, хотя бы в ней участвовали самые божественные соловьи. Верблюд есть вещь, а прочее все гиль… но где я найду… Да! – вспомнил Михаил Дмитриевич, постукивая в переборку каюты. – Капитан Баранок, где вы там пропадаете?
Баранок появился.
– Готово ли предписание о заготовке?
Баранок молча подал бумагу к подписи и молча, взяв подписанную, ушел в свою каюту.
– Мангышлак даст мне четыре тысячи, туркмены, если Щ. не сплутует, шесть тысяч, но этого мало! Пытался я добыть из Туркестана…
– О туркестанских верблюдах я имею верные сведения, – заметил Борис Сергеевич.
– Родной мой, что же вы молчите?
Командующий хитрил. Туркестанский верблюд был необыкновенно близок его боевому сердцу, и он следил за туркестанской поставкою как за излюбленным делом.
– Хотя Извергов рыщет всюду, где слышится рев верблюда, но вы получите из-за Амударьи не более четырех тысяч голов. Прошлой зимой погибло их в одном Казалинском уезде до тридцати тысяч. Кроме того, Извергов потерял у кочевников и последние остатки доверия, теперь ему отпускают верблюдов только для циркуляции у берегов Каспия.
– И то для перевозки купеческой клади?
– Именно.
– Но разве глупому верблюду не одинаково тяжело везти шестнадцать пудов клади – купеческой или военной?
– Далеко не одинаково.
– Да, разумеется, есть разница в присмотре за ним, в срочности и в умении обходиться с его ноздрями. Но не все ли равно ему тащить эту тяжесть в Хиву или в Теке?
– Вы поведете их в Теке?
– Непременно.
– Обманом?
– Нет, военной хитростью, а это не одно и то же. Пусть Извергов добывает их каким он хочет способом – грабежом, кражей, обманом…
– Но, Михаил Дмитриевич, что же скажет общественное мнение?
– Никто так хорошо не понимает фигуру умолчания, как общественное мнение! К тому же, повторяю, пусть Извергов грабит, где и кого хочет… но когда дело дойдет до расплаты с населением, вы, Борис Сергеевич, должны заставить его расплатиться с непривычной ему честностью.
– Теперь мне понятно, почему вы запретили корреспонденции из отряда…
– Не совсем так. Видите ли, петербургское злоязычие утверждает, что под моей фамилией скрывается один только мираж, созданный услужливым корреспондентом, и что на Зеленые горы мог бы взойти любой фемистоклюс из-под арки Главного штаба. Поэтому мне приказали: корреспондентам при отряде не быть.
– И тем не менее корреспонденции все-таки будут появляться, по крайней мере в иностранных газетах. Скажу более, здесь где-то около вас увивается корреспондент бомбейской «Таймс». В последних номерах этой шестой державы есть уже вести из-за Каспия. Вы помните О’Донована?
– О, мы большие друзья. Ему полагалась во время восточной войны ежедневная фляжка коньяка за мой счет.
– Судя по некоторым газетным известиям, он отправился в Персию с намерением поселиться на нашем берегу.
– Несмотря на мое запрещение?
Михаил Дмитриевич постучал в переборку.
– Капитан Баранок! Отдать секретный приказ комендантам, чтобы они следили за появлением иностранных корреспондентов и особенно за О’Донованом. Если последний вздумает поселиться в Чекишляре, то пусть бранный воевода… примет его под свое доброе попечение.
Пароход подбирался уже к красноводскому рейду, когда Михаил Дмитриевич прервал занятия и вышел из салона на свежий воздух. Граф Беркутов немедленно прислал ему стакан шампанского.
– При виде этого душевного человека я каждый раз вспоминаю княжну Гурьеву. Где она? – поинтересовался Михаил Дмитриевич. – Мне кто-то говорил, что она бросила мужа и отправилась в Швейцарию переучивать медицину.
– Напротив, она живет в Тегеране с мужем.
– С этою английской миногой? Удивительное извращение вкуса! Можно ли было променять графа Беркутова на такую ничтожность, как Холлидей!
– Но разве граф просил ее руки?
– Просил, и она отказала. Отказ так на него подействовал, что он ищет смерти, и это в наш-то прозаический век! Чуть не силой он вырвал у меня согласие назначить его в штурмовую колонну, а при штурме между смертью и колонной нет расстояния!
При этом неожиданном открытии Можайский невольно остановил на графе долгий и проницательный взгляд. Да, изящный аристократ, наделенный лучшими душевными свойствами русской натуры, не шел ни в какое сравнение с мистером Холлидеем.
Можайский дал себе слово обратиться к дневнику Ирины только в минуту сильной радости или, наоборот, в минуту тяжелой душевной муки.
Какая же из этих минут настала?
«Какое тяжелое открытие, решившее притом судьбу всей моей жизни!»
Так начиналась страница дневника, на которой Борис Сергеевич встретил фамилию графа Беркутова.
«Он объяснился в любви ко мне, что, впрочем, не было тайной для моего сердца. Помню – я видела это во сне, – будто он упал с лошади и разбился, после чего я путала целую неделю рецепты хуже всякой фельдшерицы. По общему отзыву граф правдив, великодушен, скромен и беспредельно добр. Если же подумать, что человек есть только несовершенство всех совершенств, то он – к чему мне хитрить в своем дневнике? – вполне подходит к моему идеалу.
Я открылась отцу, который с восторгом принял предложение графа, но моя мать восстала против этого брака с непонятным упорством. Положим, я никогда не имела в ее сердце теплого уголка, но, казалось бы, ей нет повода противиться моему счастью.
– Ты не будешь за графом Беркутовым! – решила она своим обычным властным тоном.
– В таком случае она обойдется без твоего позволения! – попробовал отец, заступаясь за меня, сломить ее волю.
Вышла неожиданная сцена. Мать, признававшая обмороки за душевную дряблость, упала как подкошенная. Хорошо, что я была неподалеку.
Прошла неделя. Мать выздоровела, но о происшедшей сцене не обмолвилась ни одним словом. Граф просил ответа.
Тогда отец принял решимость предъявить матери ультиматум, и – о боже! – зачем я не пожертвовала своим счастьем, зачем я не остановила отца? У ног твоих, отец, у ног прошу прощения!
В настоящее время лорд Редсток, фарисей во вретищах бедного Лазаря, владеет умами известной части нашего общества. “Он вдохновен!”, “Ему дано свыше!”, “Горе тому, кто не верит в его посредничество между небом и землею!” И вот мать отправилась на религиозный сеанс апостола Гагаринской набережной. Сегодня он был, говорят, велик в своем экстазе. Он потрясал сердца и из глубины их извлекал и угрызения, и признание. Именно после такой проповеди отец предложил матери категорический вопрос: “Почему граф Беркутов не может быть мужем Ирины?” – “Почему? Вы, несчастный, хотите знать почему? Потому, что отец графа Беркутова – отец моей Марфы. Пора мне в этом признаться. Вы не в состоянии казнить меня, таковы ваши убеждения, и поэтому я, – мать опустилась перед отцом на колени, – прошу вашего, князь, согласия на поступление в монастырь. Мне уже обещали обойти все формальности”.
Отец с рыданиями передал мне это объяснение. Тогда я отказала графу под одним из глупых предлогов и попросила его оставить наш дом. Сегодня мы покидаем столицу навсегда и уезжаем в Гурьевку».
Тайна рождения Марфы была известна Борису Сергеевичу еще до дня обручения с нею.
Тайну эту князь открыл ему с полной чистосердечностью и со взаимным обязательством скрыть ее и от людской молвы, и от самой Марфы. «И в глазах света, и под моей кровлей она останется навсегда моею дочерью!» – сказал он, зная, кому он доверяет честь матери Аполлинарии.
XXXПо суровому приказу политической мудрости наша периодическая печать того времени хранила о закаспийской экспедиции строгое молчание. Налагая запрета, мудрость упустила из виду, что замкнутые уста сфинкса разжигают любопытство сильнее многословной болтовни. Экспедиция была еще в зародыше, когда пресса Лондона, и Бомбея щедро сыпала корреспонденции из Туркмении. Большинство их заключало в себе умышленную ложь, пока не явился корреспондент, рискнувший пометить свою рукопись «Чекишляром». Его корреспонденции подходили к истине.
Сколоченная в Чекишляре из укупорочных ящиков гостиница Иованеса состояла из бильярдной, столовой и двух каморок, отделенных раздвижными дощечками. Каморки никогда не пустовали. Теперь одна из них была занята английским корреспондентом О’Донованом, а другая – кавказским коммерсантом Якуб-баем, который приехал, по его словам, в Чекишляр по крупным торговым делам. Соседи по номерам познакомились на виду всех и сошлись тем скорее, что коммерсант бывал, по его словам, в Англии и объяснялся по-английски.
Иованес гордился тем, что в его номерах живет знатный иностранец. К сожалению, последний забыл адрес своего лондонского банкира и не мог оправдывать счета гостиницы, но Иованес, как человек аккуратный, перестал после первого же неоплаченного счета отпускать иностранцу коньяк, а вскоре перевел его на одни фаршированные помидоры.
Несмотря, впрочем, и на это чувствительное лишение, номера Иованеса представлялись человеку, которому нужно было видеть и слышать многое, неоценимой находкой. Бильярдная в Чекишляре служила местом свидания всего лагеря и постоянно оживлялась новыми посетителями, а с ними и свежими новостями. Здесь никто и ни в чем не стеснялся. Разумеется, никто из посетителей и не задумывался над тем, что за перегородкой сидит английский корреспондент и жадно ловит каждое слово.
В бильярдной разговор не умолкал.
– Неужели Теке позволяет вам вести телеграфную линию без охраны и притом на столбиках, которые легко повалить ударом нагайки? – спрашивали там телеграфиста.
– А вот же третий месяц стоит моя линия – и ни одного перерыва.
– Не замечают?
– Помилуйте, как не замечают! Текинцы нередко подъезжают к линии, трогают пальцами проволоку, качают головами и уезжают обратно. По их предположениям, мы ведем проволоку ради одной хитрости, а в чем она заключается, они не знают.

