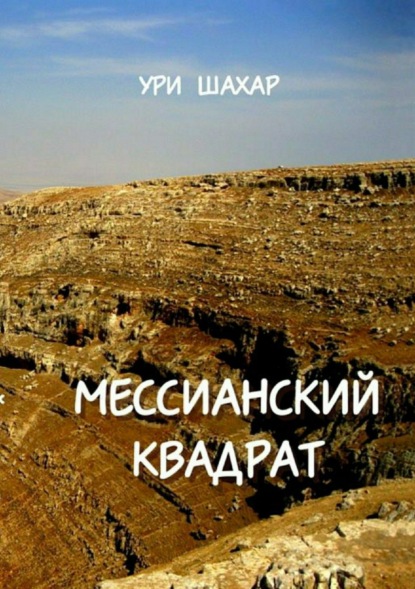 Полная версия
Полная версияМессианский квадрат
Сарит рассмеялась.
– Ну ладно, хватит! Сдаюсь, сдаюсь… Что, пошутить уже нельзя?
Мы с Андреем разом онемели. Я, наученный уже опытом, первый пришел в себя.
– Как это – пошутить? Это что, шутка была?
– Так, вроде того. Повеселить вас захотелось.
– Должен сказать, что тебе это не очень удалось, – еще не остыв, с досадой заметил я.
– Да брось, Ури, отличная была шутка. Я оценил, – возразил Андрей. Глаза его блестели, он оживился, раскраснелся.
Мы еще сходили в парк Ган Сакер, откуда через красивейший сад роз вышли к Кнессету – израильскому парламенту. Андрей чувствовал себя прекрасно и как будто не замечал костылей. Попытка развлечь больного все-таки оказалась успешной.
– Я вижу, тебя, в отличие от Гоголя, Иерусалим, все же привел в чувства, – заметил я, когда мы посадили Сарит на автобус.
– Не столько Иерусалим, сколько иерусалимка! – весело поправил Андрей.
* * *
На другой день мы с Андреем поехали в Старый город. Автобус подвез нас к Котелю41, а потом мы шли через весь Старый город по направлению к храму Гроба Господня.
Мы вошли в христианский квартал и через полчаса после бесчисленных остановок возле лавок с восточной экзотикой – c агрессивными цветами, запахами и голосами, бьющими по глазам и по ушам, которые мне порядком приелись, а у Андрея вызывали восторг, – подошли наконец к цели нашего путешествия – храму Гроба Господня. Увидев, что перед воротами я остановился, Андрей нерешительно спросил.
– Ты что, не зайдешь со мной?
– Что-то нет настроения… Я тебя здесь подожду.
Он пробыл там не меньше часа и вернулся совершенно потрясенный.
– Там такая очередь была, но я все же дождался, прикоснулся к ложу… Это исток жизни…
Всю дорогу до Яффских ворот он не мог остановиться, все рассказывал, про какую-то плиту и про какое-то отверстие.
Я рассеяно слушал.
– Жаль, что ты не зашел туда. Все-таки это то самое место, где воскрес Мессия, – заключил Андрей, когда мы дошли до башни Давида и уселись там на лестнице перед входом, чтобы Андрей смог съесть прикупленную им по дороге арабскую лепешку.
– Воскрес? Мессия? – усмехнулся я. – У меня нет такой информации… С чего ты это взял?
– Из Евангельского свидетельства. Воскресший являлся в теле своим ученикам…
– Явление умерших – самое обыкновенное явление. Причем очень часто призраки выглядят совершенно осязаемыми. В Гемаре, например, описывается, что после своей смерти рабби Иегуда Ханаси в течение месяца являлся своим ученикам и домашним, даже делал с ними киддуш. Так что в этом пункте евангельское свидетельство не очень убедительно. Да и не только в этом. Многое из того, что описывается в Евангелиях, просто не могло быть.
Должен сказать, тема эта не была мне в диковинку. В свое время я прочитал книгу Хаима Коэна о суде над Иисусом, в которой доказывалось, что если иудеи и вмешались в римский процесс над ним, то только в надежде предотвратить казнь. А полгода назад мне дали почитать исследование Хаима Маккоби, который утверждает, что Йешуа в первую очередь стремился изгнать римлян, хотя и надеялся осуществить это не столько военными, сколько чудодейственными средствами…
– Но чего тут не могло быть? – удивился Андрей.
– Как тебе сказать? Встречаются даже и иудеи, которые верят в то, что Йешуа был осужден Сангедрином. Но это мнение они, в конечном счете, переняли от христиан… Немыслимо, чтобы при Пилате какие-нибудь евреи выступили против того, кто провозгласил себя Мессией, то есть их освободителем, да еще восприняли бы его как богохульника. А вот римляне мириться с ним как раз никак не могли… Хаим Маккоби об этом целое исследование написал.
– Так этот Маккоби признавал или нет, что Иисус провозглашал себя Мессией?
– В каком-то смысле признавал. Но евангелисты все исказили, а на домыслах религию не построишь. У тому же Рамбам учит, что Мессия вовсе не должен воскресать, не должен делать никаких чудес. Он должен восстановить государство, в котором будут уважаться и исполняться законы Торы.
– Прости, конечно, но какой-то скучный у вас Мессия… Хотя на самом деле, не в слове «Мессия» вообще дело. Я лично легко бы этот почетный титул вашему Мессии уступил… Но в нашем Иисусе важно, что он именно совершил великое чудо – воскрес…
– Все люди и без того воскреснут в последний день. Зачем ему понадобилось вставать из гроба до срока? И зачем из этого устраивать культ?
– Как это зачем? Всякий первооткрыватель удостаивается культа.
– Но разве он первый? И до него Йехезкель воскрешал людей, и Элиягу воскрешал… Да и позже мудрецы делали это. Рава воскресил раби Зейру, а раби Ханина – стражника царя Антониуса… И вообще… я не верю в то, что он воскрес.
То ли мои слова застали его врасплох и вывели из себя, то ли Андрей просто устал за целый день, но костыль, который он все это время машинально вертел в руке, со звоном упал на парапет и отлетел вниз по лестнице на несколько метров, что вызвало живой интерес у проходящей мимо группы туристов в одинаковых белых панамках.
– Не веришь? А что же ты скажешь по поводу туринской плащаницы?
– Я даже не знаю, что это, – честно признался я, сбегав за костылем и вернув его Андрею.
– Спасибо. Так вот слушай. По преданию, Иисус после смерти был завернут в саван, который хранится до сих пор. В настоящий момент он находится в Турине. Так вот знай, что на этом саване проступило негативное изображение человека с описанными в евангелии увечьями. Создается впечатление, что ткань именно «засветилась». Это невозможно считать подделкой. А совсем недавно специальный компьютерный анализ обнаружил на веке человека отпечаток монеты. То есть на глаз усопшего была положена монета, которая там отпечаталась. При этом выяснилось даже, что эта монета времен императора Тиберия была вычеканена с необычным написанием. В слове император – «kaicaroc» – вместо буквы «к» стоит «с», то есть «caicaroc». Сделали проверку и убедились, что в мире действительно существует несколько таких монет…
– Надо еще разобраться, насколько это не подделка, – ответил я. – Слишком уж все это фокусами отдает.
Но рассказ меня заинтриговал, и под вечер, еще не остыв от споров с Андреем, я решил позвонить своему знакомому – Пинхасу Бен-Цви, человеку, сведущему в такого рода вопросах.
***
Я познакомился с Пинхасом ровно год назад. Тогда мы с Йосефом в очередной раз блуждали по Иудейской пустыне. Обыкновенно мы путешествовали в северном направлении: спускались в вади Кельт рядом с живописным монастырем Сент-Джордж; пару раз дошли до Хасмонейских дворцов, откуда уже было рукой подать до Йерихона. Но на этот раз мы двинулись на юг, вошли в вади Кумран и спустились по нему к Мертвому морю. Там, в самом низу, у раскопанного археологами городе кумранитов, мы пристали к одной экскурсии и прослушали лекцию про секту «Яхад» и про спрятанные ею рукописи.
– Почему в Талмуде нет ни слова о ессеях? – удивлялись мы на обратном пути. – Какие тому могли быть причины? Неужели мудрецы стали бы что-нибудь замалчивать? Они всегда спорили с теми, с кем не соглашались. И вот кумранские рукописи показали, что где-то рядом находился какой-то другой, огромный богатый мир, но Талмуд не упоминал о нем ни слова…
С этим вопросом я пошел тогда к наиболее уважаемому мною раввину нашей йешивы – раву Исраэлю, но он ничем не мог мне помочь. Разве что признал, что тоже никогда в Талмуде не встречал упоминания ни об Учителе праведности, ни о ессеях. Однако, подумав, рав Исраэль посоветовал обратиться к одному своему знакомому археологу – знатоку в таких вещах. Так я и познакомился с Пинхасом Бен-Цви.
Пинхас был «свой человек»: во-первых, молодой, лет двадцати семи – двадцати восьми, во-вторых, в вязаной кипе, наконец, офицер ЦАХАЛа в запасе. И при этом на редкость эрудированный и широкий.
Мой вопрос не был для него неожиданным.
– Таких упоминаний действительно нет, – подтвердил Пинхас. – Но кто вообще упоминается? Знаешь ли ты, что в Талмуде всего один раз встречается слово «ноцрим» – «христиане»? Мы, правда, привыкли под общим словом «еретики» понимать христиан. Но это совсем неоднозначно. Иногда совершенно ясно, что имеются в виду другие еретики. Их десятки, но Талмуд о них также умалчивает.
– Откуда же о них вообще тогда известно? – удивился я.
– Известно из того же Талмуда, но имен сект не приводится. Приводится только число. Например, в Иерусалимском талмуде в трактате Сангедрин рабби Йоханан бен Заккай утверждает, что Израиль не был рассеян, пока он не распался на двадцать четыре секты.
– Но почему, если в Гемаре имеются упоминания о Йешуа, то ни слова не сказано об Учителе Праведности? Ведь по сути он был первым, кто претендовал на роль Мессии. Как его можно было обойти?
На этот вопрос Пинхас мне внятно не ответил. Но в целом произвел впечатление очень яркого и знающего человека.
На прощание Пинхас дал мне почитать несколько книг и копии главнейших кумранских рукописей. Так я прочел «Дамасский документ», «Устав», «Войну сынов света с сынами тьмы», прочел так называемый «Храмовый список», возбуждающий множество вопросов, связанных с календарем, прочитал комментарии к различным книгам ТАНАХа и, наконец, особенно поразившие меня гимны Учителя Праведности. Тексты были неровные, но от некоторых слов исходила удивительная подлинность и сила, соразмерные с подлинностью и силой ТАНАХа.
И снова я удивился тому, что в Гемаре нет упоминаний ни об этом Учителе, ни о секте «Яхад», ни даже о ессеях, к которым многие эту секту относили. Было странно думать, что такие яркие документы могли остаться неизвестными… Значит, еще что-то более великое могло возникнуть и не сохраниться для потомков? Мыслимо ли это?
***
Как бы то ни было, именно к Пинхасу я решил обратиться по поводу плащаницы.
Я пришел к нему в конце недели шалашей и соответственно в конце осенних каникул.
Он повел меня в шалаш, который соорудил у себя на балконе – настолько просторном, что на нем умещались низкий столик, диван и два кресла. На столике стояли дорогие бокалы и напитки, вазочка для льда из голубого стекла и стаканчик с соломками. Из гостиной доносилась тихая джазовая музыка. Мне было немного неуютно в таком люксовом жилье и при таком элегантном хозяине, и первые минуты я думал только о том, как правильно пить из этих бокалов и как правильно сидеть на белом диване, но тема разговора была такой интригующей, что я скоро совершенно забыл обо всем.
Как я и ожидал, Пинхас прочел мне целую лекцию. Он рассказал, что в древние времена при захоронении тело усопшего не покрывалось саваном, а обвивалось вокруг, причем голова – и это важно – повивалась отдельно. Уже одно это обстоятельство позволяло говорить о том, что Туринская плащаница поддельна. Пинхас рассказал и о негативных результатах углеродного анализа и предположил, что плащаницу изготовил Леонардо Да Винчи, который, по его словам, имел доступ к тем погребальным пеленам, которые на протяжении веков хранили христиане.
Напоследок я спросил у Пинхаса, имеются ли у него какие-нибудь книги о христианстве и его основоположнике. У Пинхаса было все. Он пробежал глазами длинные и аккуратные ряды книг и быстро нашел нужное: это была книга Давида Флуссера, профессора еврейского университета, у которого Пинхас, оказывается, в свое время проучился целый семестр.
– А книга Маккоби у тебя есть? – поинтересовался я.
– На английском.
– Ну, на английском… Она, по-моему, и не переведена.
Я взял также и Маккоби. Решил сделать копию для Андрея.
От Пинхаса я пошел в йешиву, чтобы на другое утро в подобающей обстановке встретить праздник Ошанна-раба. Однако пока во время утренней службы мы молились с пальмовыми ветвями в руках, в Тель-Авиве были зарезаны и задушены семь человек, в основном молодые девушки. Два террориста из Газы заходили в случайные квартиры и там зверски – с помощью ножей, молотков и веревок – убивали тех, кого заставали.
Вечером с исходом Ошанна-Раба начался другой праздник – Симхат-Тора, по веселью, пожалуй, не уступающий Пуриму. Но настроение у всех было подавленное. Медленно двигаясь по кругу со свитками Торы в руках, мы распевали гимны, стараясь не поддаваться унынию. Впрочем, минут через пятнадцать многие уже весело плясали: скакали, кружились, сближались и расходились рядами, водрузив на плечи товарищей. Но я ушел, не дождавшись конца. Так и не смог прийти в себя.
***
Началась учеба. Свободного времени почти не было, но для экспедиции в Каранталь я его все-таки нашел. В первой половине ноября, как только врачи разрешили Андрею передвигаться без костылей, мы дождались хорошей погоды и сразу выехали в поселение Веред-Йерихо. Час Х настал.
Мы долго шли вдоль горной гряды, с опаской озираясь на кое-где подбирающиеся к самому подножию йерихонские дома. Всматриваясь в каждую небольшую расщелину, Андрей растерянно повторял:
– Очень похоже, но вроде не оно, – а потом, как бы оправдываясь, бурчал под нос, – в тайге и то легче ориентироваться.
Несколько раз мы углублялись в очередное ущелье, но каждый раз это заканчивалось тем, что Андрей с досадой признавался, что эти места ему совершенно незнакомы, и мы возвращались назад.
– Ну хорошо, успокойся, сосредоточься, – советовал я, – вспомни, где был Иерихон, когда ты спустился с гор.
– Прямо передо мной и был! Вроде бы… Все как-то в тот раз по-другому выглядело…
Мы тыкались вслепую в каждое углубление, которое замечали, и так провели целый день. Наконец я понял, что очень скоро стемнеет, и скомандовал возвращаться.
– Плохое сейчас время для таких походов. Дожди, и день короткий. Сюда или ранней осенью, или поздней весной надо идти.
– Как ты себе это представляешь? – ужаснулся Андрей. – Я же уезжаю в декабре, а ты в армию весной идешь.
– В армии существуют отпуска. Подгадаем к ним и снова сюда сходим.
В тот момент я действительно был уверен, что так оно и будет. И что если не весной, то осенью мы сюда обязательно вернемся…
***
На другой день после нашего похода Андрей отправился путешествовать в Галилею. А я в конце декабря, на ханукальные каникулы, уехал с друзьями на Мертвое море – в район Эйн-Геди.
Если я теперь и вспоминал о рукописи – то только со скепсисом. Со временем мое отношение ко всей этой истории изменилось. Я пересмотрел ее от начала до конца и почти потерял к ней доверие. В самом деле, как случайный, неопытный в таких делах человек может найти что-то стоящее там, где до него уже прошли десятки, если не сотни, бедуинов и ученых?! Весь район Мертвого моря был прочесан на предмет свитков уже десятилетия назад. Да и как он мог бы отличить древнюю пещеру от «современной», в которой время от времени останавливаются бедуины, – та же утварь: те же горшки, те же корзины?! И если ему попалась на глаза какая-нибудь не имеющая никакой ценности рухлядь, которую бедуины приволокли для растопки, он, человек увлекающийся, мог бы легко принять ее за древнюю рукопись. Да и состояние Андрея в тот день было из ряда вон скверное. Что я не видел, как он в тот день засыпал, сидя на рюкзаке? Трудно было отнестись с серьезностью ко всей этой истории.
***
Я зашел к Фридманам только первого тевета, за день до отъезда Андрея, перед Новым годом, который он хотел встретить в России, – и к своему удивлению застал там Сарит.
Она пришла с подарком: принесла Андрею на прощание несколько книг на иврите, чтобы он в Москве совершенствовал язык.
– А я тут делюсь с Сарит галилейскими впечатлениями… – сказал мне Андрей.
– Ну и как? – поинтересовался я.
– Капернаум меня поразил… Его, представляешь, раскопали! Я неподалеку от него, на самом берегу Кинерета, три полных дня провел.
– В палатке что ли?
– Да, в палатке. Молился, Библию читал, да и другие книги. Маккоби, кстати, начал.
– Слушай, а я для нас с тобой назначил на завтра встречу с одним знакомым. Он – историк, археолог, талмудист, знаток раннего христианства и очень интересный человек.
– Ты хоть знаешь, когда у меня самолет?
– Ты сказал, в десять… вечера?
– В десять утра!
– Надо же! – огорчился я. – Слушай, а вдруг он сегодня может?
– Я бы не прочь с ним познакомиться!.. Только хотел напоследок побродить по Старому городу… А ты хочешь пойти? – спросил Андрей у Сарит.
– Ой, конечно! Ужасно хочу с ним познакомиться!
– Я имел в виду пойти со мной в Старый город, – неловко улыбнувшись, поправился Андрей.
Сарит смутилась.
– Конечно, Андрей! Пойдем сейчас погуляем, а потом уже завтра мы с Ури пойдем к историку – правильно, Ури?
Мы поехали в Старый город. По дороге Сарит рассказала, что ее две недели назад вызывали в полицию.
– Поймали террориста?! – оживился я.
– Нет, не поймали. Наоборот, решили закрыть дело. И поэтому снова меня допросили. Ведь получилось, что только по моим показаниям это выглядит как предумышленный наезд. А следователь стал сомневаться в этом…
– Ну и что?
– Не дала им дела закрыть! – гордо сказала Сарит. – Сказала: ищите!
В Старом городе мы пошли к южной стене Храма, точнее к тому, что от нее осталось. На углу, уже с западной стороны, я показал след древней арки.
– Видите? Когда ее римляне обрушили, каменный тротуар повредился… Эта арка служила лестницей на Храмовую гору, под ней торговали жертвенными животными, мелкими, конечно, козами, голубями.
– Да что ты говоришь? – воскликнул Андрей. – Так это, выходит, то самое место, где Иисус разгонял торгующих? А это, получается, тот самый тротуар, по которому он ходил?
– Чего не знаю – того не знаю. Но то, что здесь ступала нога рабби Йохана бен Заккая, раббана Гамлиэля и других мудрецов тех времен, я тебе ручаюсь.
Совершенно ошеломленный Андрей присел и прикоснулся ладонью к камням.
– Какое счастье, что в византийский период святые отцы не прознали, что это было место торговли! Иначе они непременно возвели бы там церковь, назвали бы ее «Храм Разогнавшего всех торгующих» и совершенно лишили бы людей живой связи с самим местом. Я в Галилее на это насмотрелся. Насколько радуют взор все эти цветистые купола, поднимающиеся над какой-нибудь березовой рощей под Димитровым, настолько они нелепы и неуместны здесь…
– А ты знаешь, Андрей, я первый раз в жизни общаюсь с живым христианином, – призналась вдруг Сарит. – Я всегда думала, что это страшные люди, но теперь вижу, что ошибалась.
– Да что ты такое говоришь! Чего же в христианах такого страшного?
– Ну, вся эта инквизиция, все эти крестовые походы, очистившие Святую землю от евреев. О Катастрофе я уже не говорю.
– Ну и не говори! При чем тут христиане! – возмутился Андрей. – Крещеные пособники Гитлера – не христиане! И нацизм – это неоязыческое явление. Гитлер планировал полностью ликвидировать также и христианство.
– Может быть. Но разве ты станешь спорить с тем, что христианство нередко насаждалось силой? – добавил я.
– Да, но пафос нетерпимости к неверным как раз из Ветхого завета заимствован. Только язычники бывают толерантны друг к другу, а монотеисты всегда непримиримы.
– Ну уж извини! – воспротивился я. – Иудаизм не приемлет джихада. Когда царь Шломо молился о том, чтобы в Иерусалимский храм приходили все народы, он вовсе не требовал от паломников отречения от их богов. Это спор рабби Йегошуа и рабби Элиэзера. Рабби Элиэзер считал, что иноверец может наследовать грядущий мир только в том случае, если отречется от ложного служения и примет иудаизм, но рабби Йегошуа, мнение которого приняли все мудрецы, учил, что и язычник может спастись.
– Как это может быть? – оторопел Андрей. – Библия же через слово угрожает уничтожением неверных и предписывает искоренение целых народов.
– Это ложное впечатление. Бог действительно запретил идолослужение всему человечеству, но наказывает за него только евреев. Рабейну Бехайе еще тысячу лет назад подметил: нигде во всем ТАНАХе Бог не осуждает народы, служащие ложным богам, за исключением тех, которые приносят человеческие жертвы. Именно в этом состоял грех ханаанских народов, и именно за это Бог повелел их искоренить из Святой Земли.
– Обязательно проверю.
***
Когда стемнело, мы покинули Старый город и не торопясь прошли по улице Яффо до самого дома Фридманов.
– Дайте-ка мне на память по монетке, – попросил Андрей.
Я высыпал из кошелька мелочь и протянул.
– Ничего, если я пять шекелей возьму?
– Хоть все забирай.
– Все не надо. Мне надо именно пять, – пробормотал Андрей, вытягивая приглянувшуюся ему монету.
– А у меня есть только один шекель, – сказала Сарит, – зато старый. Я его просто так таскаю. Хочешь?
– На него ничего уже не купишь?
– К сожалению…
– Почему к сожалению, ведь это значит, что он бесценный!
При этом Андрей посмотрел на Сарит такими сияющими глазами, что можно было подумать, будто эпитет «бесценный» относится к ней самой.
Мы простились с Андреем и пошли к остановке.
***
– Ну так как, идем завтра к Пинхасу? – напомнила Сарит.
Я не был в восторге от этой идеи: религиозному парню приходить в гости к уважаемому ученому в сопровождении легкомысленной девчонки, которая завирается, увлекается, не к месту хохочет… что он обо мне подумает?
– Мы с ним утром встречаемся, – у меня еще была надежда отговорить ее. – Ты еще в школе будешь.
– Опять ты за свое! – взбунтовалась Сарит. – Нечего там делать, в этой твоей школе!
– Как это нечего? А аттестат зрелости? А твое будущее?
– Немедленно выключи «папочку», – с иронией сказала Сарит, – я иду – и все тут! Знакомство с профессором гораздо полезнее для моего будущего… Так где и когда мы встречаемся? – спросила она легко и уверенно, как будто вопрос уже решен. Возражений не допускалось.
Хотя у меня и было неопределенное предчувствие, что это знакомство до добра не доведет, но я сдался.
***
Несмотря на мои опасения, все прошло гладко. Знакомясь с Сарит, Пинхас приветливо кивнул ей головой и больше уже не обращал на нее внимания. Выставив на журнальный столик чай с шоколадными конфетами, он усадил нас на диван, а сам сел на стул напротив.
– Андрей улетел в Россию. Сарит – вместо него. Мы хотели бы узнать побольше о ессеях и вообще о том времени.
– Что вас конкретно интересует?
– Нас, например, удивляет сходство между Учителем Праведности и Иисусом. И тот и другой говорят о себе в превосходной степени, и тот и другой связывают свое учение с «Новым заветом». И тот и другой находятся в конфликте с Первосвященником. А сходство ессеев и христиан просто бросается в глаза…
– Да, правда, всем начинающим читателям кумранских текстов так кажется, – начал Пинхас, – что Учитель Праведности – это Иисус из Назарета, а ессеи – это христиане. Первым, насколько я помню, к такому выводу пришел христианский историк Евсевий Кесарийский после того, как прочитал книгу Филона о терапевтах. Чуть позже эта книга Филона навела на ту же мысль другого христианского автора – Епифания. После того как нашлись кумранские рукописи, немало исследователей направились по стопам этих древних церковных историков. Например, Андре Дюпон-Соммер.
– И?
И… это, конечно же, совершеннейший вздор! Между Учителем праведности и Йешу пролегает срок не менее чем в столетие. Какое-то влияние, возможно, и имело место, даже наверняка имело, но отождествлять ессеев и христиан – верх наивности.
Пинхас был в тот вечер просто в ударе. Сарит слушала его, затаив дыхание, и даже не пыталась что-то вставить, затихла, как добродетельная мышка (чему я был особенно рад).
Пинхас рассказал бездну интересного. Например, об удивительной, можно сказать мистической, связи между укрытием кумранских свитков и их обнаружением.
– Бедуины, нашедшие в Кумране кувшины со свитками, предлагали их нескольким людям, но те не могли оценить их значения. Первым, кому это значение действительно открылось, был профессор Иерусалимского университета Сукеник. 25 ноября в его руки попал один свиток, а 29 ноября он приобрел еще три свитка и именно тогда все понял!.. Если не считать папируса Нэша с фрагментом отрывка «Шма Исраэль», который датировали первым веком до нашей эры, все прочие сохранившиеся тексты священного писания на иврите относились в лучшем случае к девятому веку. А тут вдруг свитки целых библейских книг в прекрасном состоянии! Первого и даже второго веков до нашей эры. Это было невероятно. Как будто бы века смыкались. Как будто бы прерванная история восстанавливалась… Но самое удивительное, что она действительно восстанавливалась. Это открытие было сделано Сукеником 29 ноября 1947 года. А ты знаешь, что это за день? – обратился Пинхас ко мне.
– Я не помню точную дату, но могу догадаться…
– Да, – торжествующе улыбнулся Пинхас. – В этот день Генеральная ассамблея ООН проголосовала за план разделения Палестины на независимые Еврейское и Арабское государства! Вы только вдумайтесь. Во времена Римской империи, в преддверии гибели еврейского государства, сотни свитков – в том числе специально принесенные из Иерусалима – были спрятаны в Кумранских пещерах. Они пролежали нетронутыми почти два тысячелетия и были обнаружены ровно в тот день, когда народы признали право евреев на восстановление своего государства!

