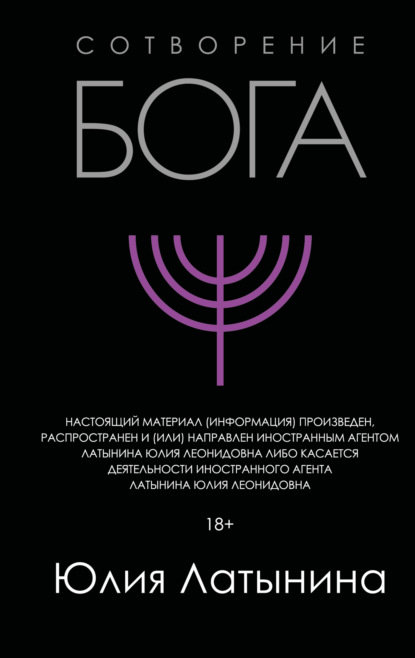
Полная версия:
Сотворение Бога. Краткая история монотеизма
При этом дело происходит после того, как Бог является Аврааму и заключает с ним завет. А Бог явился Аврааму, – согласно Быт. 17, – когда тому стукнуло 99, а Саре – 90 лет.
Читатель тут имеет право растеряться. Кому все-таки подсунул Авраам свою жену: фараону или Авимелеху? И было этой красавице, от которой падают царства, в этот момент 65 лет или все 90?
Чудеса на этом, однако, не кончаются. Дело в том, что Быт. 26 содержит еще один рассказ про жену, которую выдали за сестру. Жертвой этого обмана снова является филистимский царь Авимелех, а патриарх, который его обманул, – это сын Авраама, Исаак!
У неподготовленного человека голова может пойти кругом. Кто же все-таки из патриархов выступал сводником собственной жены: Авраам или его сын Исаак? И кому пристроили женщину: фараону или Авимелеху?
Даже если мы представим себе, что у патриархов была привычка сводничать собственных жен, у нас все равно возникает вопрос с датами.
Ведь праотец Авраам жил 175 лет (Быт. 25:7). Он родил Исаака, когда ему было 100 лет (Быт. 21:5), а Исаак женился не раньше, чем ему стукнул сороковник (Быт. 25:20). Из этого следует, что филистимский царь Авимелех, который хотел отобрать жену у Исаака, и филистимский царь Авимелех, который отобрал ее у Авраама, разделены по крайней мере половинкой столетия. Однако это тот же самый царь Авимелех! У него даже есть начальник войска, который называется Фихол, и этот начальник войска тоже фигурирует в обеих историях!
Мы понимаем, за что Яхве наградил необыкновенным долголетием Авраама и Исаака. Но за что он распространил это долголетие на филистимлянина Авимелеха и начальника его войска Фихола?
Заметим, что у нас не возникло бы никаких вопросов (кроме моральных), если бы история была рассказана только один раз: про одного патриарха и одного царя. И если бы упоминания о возрасте всех персонажей были опущены. Наша история делается неправдоподобной именно тогда, когда мы слышим все ее подробности.
Таких нестыковок в Торе очень много.
К примеру, Исход 5 рассказывает о том, как Моисей пошел к фараону и попросил его отпустить народ, а фараон вместо этого так разозлился, что наложил на евреев двойное бремя. Евреи в это время были заняты на государственных египетских стройках и делали кирпичи. Разозлившийся фараон запретил им давать соломы для изготовления кирпичей, а план по производству кирпичей оставил прежним. Евреям пришлось самим искать солому, чтобы выполнить дневные нормативы по кирпичу.
Это очень характерная, красочная и жизненная картинка, явно написанная кем-то, кто имел хорошее представление об организации труда в египетской экономике. Кирпичи в Египте в это время действительно делались с примесью соломы. И из этой картинки совершенно однозначно вытекает положение евреев в момент конфликта. Они были государственными рабами. Они принадлежали к тому огромному древнеегипетскому гулагу, который был занят на египетских стройках века: возводил пирамиды, дворцы и склады.
Однако Исход 8 сообщает, что в то время, когда Моисей напустил на Египет мух, в земле Гошен (Гесем), где проживали евреи, никаких мух не было. Яхве отделил землю, на которой проживали египтяне, от земли, на которой проживали сыны Израиля (Исх. 8:18).
Из этой зарисовки тоже совершенно однозначно вытекает положение евреев. Они проживали со своими стадами в обособленной части Египта – земле Гошен. Это – восточная часть дельты Нила, примыкающая к Синаю.
И та и другая картина вполне вероятны, – но плохо совместимы между собой. В одном случае речь идет о народе, который массово используется на каторжных государственных работах. В другом – о народе, который автономно проживает со своими стадами на территории близ Синая.
Дело касается не только Авраама и Моисея. Дело касается куда более фундаментальных вещей.
Так, из первой же главы книги Бытия мы узнаем, что Бог сотворил мир в шесть дней. Он сотворил сначала растения, потом птиц и рыб, потом животных и пресмыкающихся, а потом человека (Быт. 1). Но из следующей, второй главы мы узнаем, что человек был сотворен сначала, а растения, животные и птицы – потом.
В первой главе Бытия говорится, что мужчина и женщина были сотворены вместе (Быт. 1:27). А во второй – что женщина была сотворена после мужчины из его ребра (Быт. 2:22).
Быт. 6:20 утверждает, что Ной забрал в свой ковчег каждой твари по паре. А всего несколько строк спустя мы узнаем, что Ной забрал в свой ковчег по семь пар чистых животных и пару нечистых (Быт. 7:2). Согласно Быт. 8:7, Ной после окончания потопа выпустил из ковчега ворона, который летал туда-сюда, «пока не высохла земля». Но тут же мы узнаем, что Ной выпустил голубку! (Быт. 8:9). Согласно Быт. 7:4, потоп продолжался сорок дней. А согласно Быт. 7:24 – сто пятьдесят!
В одном месте Библии мы узнаем, что Моисей велел истребить всех мадианитян за то, что они выдавали своих дочерей замуж за евреев и тем самым прельщали евреев (Чис. 25 и 31). Это была так называемая «ересь Баал-Пеора». Однако, согласно другому месту Библии, Моисей был женат на мадианитянке сам (Исх. 2:21). Его дети, Гершом и Элиезер, были наполовину мадианитяне! Его тесть приехал к Моисею на гору Хорив и принес там жертвы Яхве! (Исх. 18:12). Из этих текстов выходит, что Моисей сам исповедовал ересь Баал-Пеора в чистейшем виде!
Согласно Быт. 32:28, Иаков получил новое имя Израиль в местечке Пениэль близ ручья Яббок, где он лично боролся с богом. Согласно Быт. 35:10, это произошло в Бет-Эле, и ни с каким Богом там Иаков в рукопашную не вступал.
Согласно Исх. 33:20 видеть Бога лицом к лицу нельзя. Тот, кто видел Бога, немедленно умирал. Но при этом девятью строками выше Тора утверждает, что Моисей разговаривал с Богом лицом к лицу (Исх. 33:11).
Согласно Исх. 7:15, Моисей творил чудеса перед лицом фараона с помощью своего чудесного посоха. Двумя абзацами ниже этот посох принадлежит уже Аарону (Исх. 7:19).
В одних частях Торы Бог обещает сделать весь еврейский народ народом жрецов (Исх. 19:6). В других, наоборот, он запрещает приносить жертвы Богу кому-либо, кроме потомков Аарона (Чис. 17:5).
Но даже все эти противоречия бледнеют по сравнению с рассказом о том, что случилось с Моисеем и сынами Израиля в местечке под названием Мерива. Исх. 17. рассказывает, что евреи в пустыне страдали от жажды. В ответ на их ропот Моисей по приказу Яхве ударил по скале посохом и высек из нее воду. Евреи были спасены от жажды и поняли, что Моисей избран Господом.
Чис. 20 рассказывает нам почти аналогичную историю. В этой главе дело тоже происходит в местечке, которое называется Мерива. Сыны Израиля тоже страдают от жажды. Моисей тоже берет посох и высекает воду из скалы. Однако, согласно Чис. 20, Господь за это деяние проклял Моисея! То, что совершил Моисей, было не чудо, а преступление, и Господь именно за это преступление приговорил Моисея к смерти. Он заявил, что тот умрет, не ступив на Землю обетованную.
Как нам это понять? Что же все-таки случилось в местечке Мерива? Можно было Моисею бить скалу посохом или нет? Проклял его за это Господь или благословил?
Речь далеко не всегда идет, как мы видим, о сложных, трансцендентальных противоречиях. Речь идет об очень простых вещах, в которых люди не могли верить одновременно. Тора напоминает неоконченный роман, сочинитель которого не знал, какой из вариантов истории выбрать, и оставил все, – а редактор не сделал за него выбора. В этом романе персонаж, уехавший на север, приезжает с юга, другой персонаж взбирается на пятый этаж трехэтажного дома, герой, скончавшийся в пятой главе, приходит в гости как ни в чем не бывало в шестой, а момент первой встречи главного героя с возлюбленной описан в трех сценах. В одном случае дело происходит в закусочной в Нью-Йорке, в другой – в полицейском участке в Дели, а в третьем – в самолете, летящем в Москву.
Как получился такой странный текст, и если его продиктовал Бог Моисею, то почему Бог оказался такой плохой писатель?
Ответ на наш вопрос впервые начали давать в XVIII в., когда критически мыслящие теологи задумались о причинах появлений дублетов в Торе, и окончательный ответ на этот вопрос дал немецкий библеист Юлиус Велльгаузен в 1870-х годах.
Велльгаузен показал, что три из пяти книг Торы – Бытие, Исход и Числа, – состоят из трех различных текстов. Эти три текста написаны тремя разными авторами. Эти три текста Велльгаузен (вслед за некоторыми своими предшественниками) назвал Яхвист, Элохист и Жреческий документ. Очень часто эти три документа также называются J, E и P, по первым немецким буквам: Jahwist, Elohist, Priesterkodex.
Кроме того, в создании Торы поучаствовал еще один важнейший персонаж, а именно – Редактор (R), который и свел J, E и P воедино, используя тот же метод копипаста, который в России используют изготовители поддельных диссертаций. Редактор Торы был первым в истории клиентом Диссертнета5.
Все три текста, объединенные Редактором, были написаны в разное время, в разном месте и разными авторами, и все они преследовали разные политические и теологические задачи.
В частности, наш первый пример с престарелой Сарой, которая прельстила собой фараона, разъясняется очень просто. Та часть Быт. 12, которая рассказывает о приключениях Сары при дворе фараона, – это Яхвист (12:10–20). А та часть Быт. 12, где говорится о возрасте Авраама, – это Жреческий документ (Быт. 12:4–5).
Оригинал Яхвиста не содержал никаких указаний на почтенный возраст Сары в тот момент, когда она оказалась в гареме фараона. Он рассказывал историю о молодой и красивой женщине. Его Авраам был полным сил мужчиной.
И, наоборот, оригинал Жреческого документа не содержал никакой истории про патриарха Авраама, отдавшего свою жену фараону. Для автора Жреческого документа это была глубоко оскорбительная история, которую он хотел как можно быстрее забыть. Его Авраам вообще не торговал женами. Это был почтенный патриарх семидесяти пяти лет, который давно оставил за собой земные страсти и слушал одного Бога.
Только когда обе истории совместили, получилась нелепица.
Точно так же автор Элохиста не знал истории о Саре – наложнице фараона. Он знал совсем другую историю, о Саре – наложнице Авимелеха. По каким-то жизненно важным причинам – мы еще поговорим по каким, – история о Саре – наложнице Авимелеха категорически не устроила автора Яхвиста. И он исправил ее. Он написал, что Сара была наложница самого фараона, а не какого-то там Авимелеха. А что касается Авимелеха – утверждал Яхвист, – то у того чуть-чуть не случился роман с женой Исаака (Быт. 26:7–10).
История с фараоном не дополняла историю с Авимелехом. Она опровергала ее. Она была рассказана вместо нее. Только когда обе эти истории оказались в одной книге, Авраам превратился в серийного сводника.
Точно так же обстоит дело с историей про Моисея, который совершил чудо, выбив воду из скалы в Мериве, и Моисея, который выбил воду из скалы в Мериве и этим совершил преступление. Они попросту принадлежат двум разным источникам! Это не две разные последовательные истории. Это одна и та же история, просто изложенная двумя авторами.
Разница между этими историями – не в каких-то действиях Моисея. Разница эта заключается в отношении авторов.
Один автор очень положительно относится к чудесам. Для него Моисей – могущественный волшебник. Своим посохом он превращает воды Нила в кровь, раздвигает Красное море и высекает воду из скалы в Мериве. Забегая вперед, скажем, что этот источник – Элохист.
А второй наш автор считает волшебство мерзким и непотребным делом. Моисея он на самом деле тоже не любит и норовит приписать все его заслуги Аарону. Он отдает посох Моисея Аарону. Все чудеса, которые в Элохисте совершает Моисей, у этого автора совершает Аарон. А за то чудо, которое совершил Моисей, он оказывается проклят. Это вовсе не чудо, а волшебство и колдовство, которое должно быть запрещено. Опять-таки забегая вперед, скажем, что этот наш второй автор – Жрец.
Разница между E, J и P
В чем разница между Жрецом, с одной стороны, и Яхвистом и Элохистом – с другой? Мы еще будем говорить об этом подробно, а пока заметим, что только Жрец является настоящим, твердокаменным, полноправным монотеистом.
Яхвист и Элохист монотеистами – в современном смысле слова – не являются. Оба эти источника, несомненно, считают Яхве главным богом евреев, точно так же как Зевса считали главным богом греком, но это лидерство Яхве явно не означает его уникальности и трансцендентальности.
Собственно, одна из причин, которая побудила Редактора Торы составить окончательный текст из нарезок предыдущих, видимо, и заключалась в том, что при надлежащей редактуре нежелательный контент Яхвиста и Элохиста мог быть уничтожен почти совершенно. Его можно было переписать, как цензоры у Оруэлла в «1984» переписывали старые газеты.
По счастью, редактура была все-таки не такой совершенной, и в результате Элохист до сих пор рекомендует тяжущимся искать правду у богов: «Кого найдут виновным боги, пусть заплатит соседу вдвое» (Исх. 22:9). А Яхвист, в числе прочего, содержит короткий, но увлекательный рассказ о бене элохим (то есть сынах бога или богов), которые спускались с неба и совокуплялись с дочерьми человеческими (Быт. 6:1–4).
Итак, Яхвист и Элохист, с одной стороны, и Жреческий кодекс, с другой, различаются прежде всего своим отношением к Яхве. Первые два считают его главным богом еврейского пантеона. И только Жрец считает его единственным богом.
А чем отличаются друг от друга Яхвист и Элохист?
Порой отличить их чрезвычайно трудно. Многие ученые даже предпочитают оперировать термином JE, – совмещенный текст Яхвиста и Элохиста, который, возможно, был соединен очень давно. Однако на самом деле у Яхвиста и Элохиста есть одно фундаментальное отличие, из которого вытекают почти все другие.
Это отличие – место написания текстов.
Приглядимся поближе.
В книге Бытия есть две сцены благословения. Они расположены одна за другой – в главе 48 и в главе 49.
В обеих сценах патриарх Иаков, умирая, благословляет свое потомство.
В главе 48 Иаков благословляет своих внуков.
Внуков у Иакова пруд пруди (все-таки двенадцать сыновей), но Иаков благословляет не всех, а только двоих, Манассию и Ефрема. Эти внуки происходят от его любимого сына, Иосифа, который к этому времени является «правителем всего Египта» и «отцом фараона». Более того, вместо того чтобы выделить первенца Иосифа, то есть Манассию, Иаков особенно благословляет Ефрема. Именно на него Иаков возлагает свою правую руку. Когда Иосиф хочет поправить отца и переложить его правую руку на голову первенца, Иаков заявляет, что благословляет младшего внука специально:
«Знаю, сын мой, знаю; и от него произойдет народ, и он будет велик; но меньший его брат будет больше его» (Быт. 48:19).
Однако Быт. 49 рассказывает нам совсем другую историю. Согласно Быт. 49, Иаков благословил не своих внуков, а своих сыновей. А особого его благословения удостоился не его младший внук Ефрем, а его четвертый сын Иуда.
Это благословение, если вдуматься, способно вызвать нешуточное удивление. Почему Иаков благословил сыновей Иосифа, было совершенно понятно. Иосиф был любимым сыном Иакова и первенцем его любимой жены Рахили. Позднее рождение этого ребенка сделало Иосифа только еще более желанным. И к тому же Иосиф сделал невероятную карьеру! Не каждому еврею удавалось стать отцом фараону. Благословляя детей Иосифа, Иаков только восстанавливает естественный порядок наследования, который был изменен из-за хитрости Лавана, подсунувшего Иакову нелюбимую им Лию первой в постель.
Но с какой стати Иакову благословлять своего четвертого сына, Иуду? Он не первенец, не любимец отца, не правитель Египта, не выдающийся полководец. Он крайне неразборчив в сексуальных связях – один раз женился на хананеянке, а другой раз обрюхатил сноху (Быт. 38).
Чтобы как-то оправдать благословение, доставшееся четвертому сыну, автору нашего текста приходится прибегать к многочисленным ухищрениям. Сначала он объявляет, что первенец Иакова, Рувим, лишился отцовского благословения из-за того, что переспал с его наложницей (Быт. 35:22). А потом сообщает, что два следующих по старшинству сына, Симеон и Леви, утратили это благословение после того, как вырезали обитателей дружественного Иакову Шехема (Быт. 34:25–29).
Как понять это странное поведение Иакова?
Кого он все-таки благословляет: Иуду или Ефрема?
Допустим, разница между этими двумя сценами объясняется тем, что они принадлежат двум разным текстам. Но почему автора одного текста так явно подчеркивает первенство Ефрема, а автор другого текста так явно подчеркивает первенство Иуды?
Наша загадка разрешается очень просто, если мы вспомним, что в IX–VIII вв. до н. э. существовало два еврейских царства – северное (Израиль) и южное (Иудея).
Доминирующим племенем на территории Израиля было племя Ефрема. Его первенство было настолько важным, что второе название Израиля было – Ефрем. Самые могущественные цари Израиля и самая его могущественная династия происходили из колена Ефремова.
Патриарх Иаков благословляет младшего сына Иосифа, Ефрема, потому что эта сцена, которая принадлежит тексту, написанному в царстве Израиля, которым правили цари из рода Ефрема. Этот текст – Элохист.
Весь длинный рассказ Элохиста о приключениях Иосифа – это не что иное, как длинное возвеличение предка основателя царства. Этот предок, согласно Элохисту, был очень крут. Он был не то что другие его братья, неотесанные пастухи, крутившие хвосты своим баранам. Он правил главной сверхдержавой тогдашнего мира, изобильным, богатым, процветающим Египтом. И более того, это он организовал его государственный строй и научил глупых египтян собирать налоги. Без хитроумного Иосифа они бы с этой задачей никак не справились.
Что же касается Яхвиста, в котором Иаков особенно благословляет Иуду, то он написан в государстве, жители которого считали себя потомками Иуды. Таким царством было южное царство, Иудея. Иудея была населена потомками колена Иудина. Из этого колена, как считалось, происходила также и правящая династия Иудеи – дом Давидов. Именно поэтому в Быт. 49 Иаков изо всего своего потомства благословляет Иуду.
Самым примечательным отличием Яхвиста и Элохиста – деталью, по которой их довольно легко отличить в книге Бытия – является используемое ими имя бога. Собственно, именно поэтому они и называются «Яхвист» и «Элохист», J и E.
Дело в том, что Элохист считает, что своим настоящим именем «Яхве» бог евреев представился только Моисею. Это было большое, системообразующее событие в жизни народа – когда бог открыл своему посланцу свое имя. Предкам Моисея он это имя не открыл. Они знали его только как Эль Шаддая. Поэтому до разговора Моисея и Бога Элохист нигде не использует имя «Яхве». Вместо этого он пользуется словом элохим.
Яхвист же использует имя Яхве с самого начала. По мнению Яхвиста, это имя было прекрасно известно патриархам. По части имени бога они были не менее осведомлены, чем Моисей.
Это различие не случайно. Дело в том, что Моисей, как мы увидим, герой прежде всего царства Израиля.
Огромная часть Элохиста посвящена именно Моисею.
А в качестве ранней святыни Израиля в Элохисте неизменно фигурирует город Шехем. Именно там, возле Шехема, Иаков поставил алтарь Элю, богу Израиля (Быт. 33:20), и именно под деревом возле этого алтаря он зарыл всех чужих богов (Быт. 35:4). Там, близ Шехема, по приказанию Моисея его преемник Иисус Навин построил алтарь на горе Гебал (Нав. 8:30). Там же, близ Шехема, сыны Израиля захоронили кости вынесенного ими из Египта Иосифа (Нав. 24:32).
Напротив, большая часть Яхвиста посвящена истории патриархов. Моисея Яхвист недолюбливает и, как мы увидим, не упускает случая преуменьшить его роль. А прародителями народа евреев Яхвист считает патриархов, и прежде всего патриарха Авраама. Могила Авраама находилась ни в каком не Шехеме, а в иудейском городе Хевроне. Этот город до Иерусалима был столицей царя Давида.
Поэтому для Элохиста очень важно, что Яхве впервые назвал свое имя именно Моисею. Что же касается Яхвиста – то для его автора не менее важно показать, что Моисей никаким таким первопроходцем не был. Что бога зовут Яхве, было известно еще патриархам.
Итак, разница между Яхвистом и Элохистом – прежде всего политическая. Элохист отражает теологию и идеологию северного царства, царства Израиль. Яхвист отражает теологию и идеологию южного царства, Иудеи. И даже теологическая, казалось бы, разница в именах бога скрывает за собой вполне конкретные политические противоречия.
Как появились на свет два эти царства, в которых и цари, и народ говорили на одном и том же языке и верили в одного и того же Яхве? И чем еще они различались?
Девтерономическая история
Итак, первые четыре книги Торы, или Пятикнижия Моисея, составлены из трех разных текстов. (Напоминаем, что книга Левит вся принадлежит Жрецу.) Однако кроме этих трех источников и четырех книг в составе Торы есть еще такая книга, как Второзаконие.
Особенностью Второзакония является то, что оно запрещает все то, что в Яхвисте и Элохисте делали патриархи.
К примеру, патриархи ставили мацевы, то есть каменные столбы. Так, Иаков в Бет-Эле поставил по случаю своей встречи с богом мацеву и возлил на ее верхушку елей (Быт. 28:18). Другую мацеву он поставил на месте смерти Рахили (Быт. 35:20). Моисей под горой Хорив поставил двенадцать каменных мацев в честь двенадцати колен Израиля (Исх. 24:4).
Однако Второзаконие относится к таким мероприятиям резко отрицательно. «Не ставь себе мацевы, которую ненавидит Яхве Бог твой» (Втор. 16:22), – требует его автор.
Получается, что с точки зрения Второзакония и Моисей под горой Хорив, и Иаков в Бет-Эле занимались запрещенными языческими практиками, характерными для народов, которые Яхве, бог Израиля, изгнал пред лицом евреев.
Точно так же возле алтарей патриархов росли священные деревья, дуб или теребинт. Авраам поставил свой алтарь Яхве у дуба Море. Под дубом, который рос близ Шехема, Иаков закопал чужих богов (Быт. 35:4). Иисус Навин собрал у этого дуба народ и водрузил под ним скрижали Торы (Нав. 24:26–27). Под этим же дубом у Шехема был провозглашен царем Авимелех (Суд. 9:6). В тексте, который повествует о коронации Авимелеха, этот дуб называется элон муцав, то есть дуб столба, а расположенная рядом с дубом гора называется тавур ха-арец, то есть пуп земли, центр мира.
«Дуб» на иврите называется элон, а «теребинт» – эла, и оба слова, вероятно, непосредственно связаны со словом эль, то есть бог. Если быть еще более точным, дуб/теребинт был символом не бога, а богини Ашеры, которая в домонотеистической Иудее была супругой (реже матерью) Яхве.
Слово «Ашера», подвергнутое жестокой цензуре, тоже до сих пор в искаженном виде встречается в Библии. Так, в ней говорится, что Авраам посадил возле алтаря в Беэр-Шеве эшель (Быт. 21:33), и что кости царя Саула были торжественно погребены «под эшелем в Явеше» (1Цар. 31:13). Этот эшель (т. е. «тамариск») – на самом деле не что иное, как испорченное «ашера».
Однако с точки зрения Второзакония практика посадки ашеры у алтаря также недопустима. «Не сади себе никакого дерева ашерой возле алтаря Яхве Бога твоего» (Втор. 16:21).
Патриархи, судьи и цари Израиля и Иудеи поклонялись богу под каждым зеленым деревом и на каждом высоком холме. Элохист даже содержит специальное указание на этот счет. «Во всяком месте, где по воле моей будет услышано имя мое, приду я к тебе и благословлю», – заявляет Яхве Моисею в Элохисте (Исх. 20:20).
Но во Второзаконии бог дает Моисею ровно противоположные инструкции. «Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое увидишь» (Втор. 12:13).
Правда, автор Второзакония не решается прямо объявить все многочисленные алтари, связанные с именами Авраама, Исаака, Иакова, Моисея, Иисуса Навина, Самуила, Саула и пр. – незаконными. Поэтому он делает ход конем. Он утверждает, что после прихода евреев в Ханаан Яхве выберет себе некое эксклюзивное место, – и вот только там и можно почитать Яхве, и все жертвы, и приношения, и первенцев стад, и жертвы всесожжения, и жертвы греха, и жертвы искупления, – все это надо будет приносить в этом одном, избранном месте. Это будет «место, которое изберет Яхве Бог ваш изо всех племен утвердить там свое имя» (Втор. 12:5).
Словом, если бы Авраам, Исаак, Иаков и Моисей жили во время автора Второзакония, то они были бы признаны жуткими язычниками и еретиками, побиты камнями и принесены в жертву на своих сооруженных где попало и снабженных ашерами и мацевами алтарях.
Когда появился такой странный текст, который объявляет все, что делали патриархи и Моисей, языческими ханаанскими практиками, предлагает вместо них тотальную культурную революцию – да еще и объявляет эту революцию подлинным учением Моисея?



